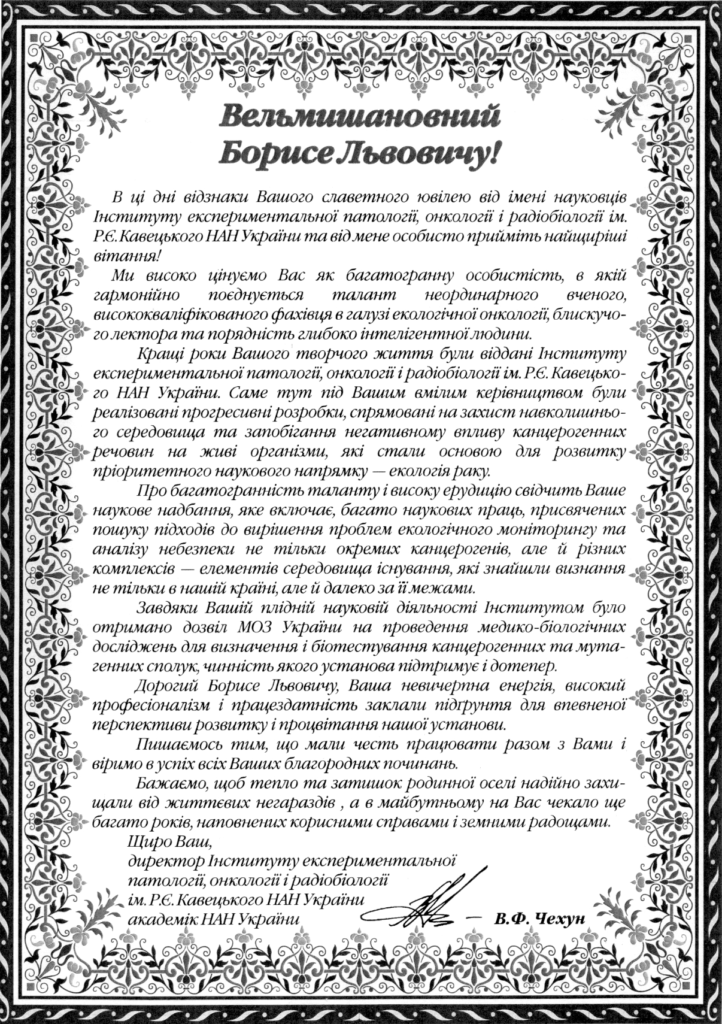Мои поездки за границу по времени совпали с распадом Советского Союза и формированием самостоятельного украинского государства.
Постепенно нарастал кризис, сопровождаемый гримасами денежного рынка. Сначала начали обменивать крупные рублёвые купюры, потом появились простыни купонов, и, наконец, воцарилась украинская денежная единица — гривна.
Хронические для огромной страны очереди стали сопровождаться паническими настроениями, страхом, что станет еще хуже. Окончательно опустели прилавки и витрины. В большинстве учреждений перестали выплачивать зарплату. Толпы служащих часами на остановках ожидали транспорта.
Постепенно, однако, обозначились признаки нового: гудящие от многолюдья оптовые рынки, толпы «челноков» — сначала в пригородных электричках, а потом на границах смежных стран, в поездах и в самолётах.
На тех же рынках они торговали товарами и продуктами, привезенными из других стран.
Исчезла жалкая фигура интеллигента, запихивающего в портфель добытую с боем «палку» «докторской». На прилавках — полное изобилие, но всё больше обнищавших людей, и наглые коммунисты с трибун требуют возвращения к прошлому. Совсем как у Окуджавы: «Ловят нас на честном слове, на кусочке колбасы».
Большинство учёных и раньше относившихся к числу малообеспеченных, быстрее других перешагнули черту бедности.
* * *
Просыпаясь утром в холодной квартире (стояла поздняя осень, но батареи парового отопления были холодными), мы с женой с тоской вспоминали о необходимости идти на работу.
Любые проявления административной активности стали мне в тягость. Страшила каждая новая встреча с пустым зданием, голодными сотрудниками, которым три месяца не выплачивали зарплату, обстановкой запустения и распада.
Надев на себя два свитера и зимнюю куртку и завернув шею мягким шарфом, я со страхом открывал нашу хлипкую наружную дверь.
Наш «академический» дом, отстроенный пленными немцами в 1947 году, был расположен в центре города напротив Владимирской горки, и раньше считался престижным.
Но жили мы на первом этаже. Наружная дверь парадного не запиралась. Попытки жильцов скинуться и поставить замок пресекались «новыми русскими» (или украинцами), которым он мешал в любое время дня или ночи втаскивать стройматериалы, выбрасывать или вносить мебель.
В парадном ночевали бомжи, которые недалеко от нашей двери устраивали себе туалет. Ниша между двумя входными дверьми в парадное в связи с разгулом демократии была превращена в пункт предвыборной агитации. В этом простенке и на вздувшихся волдырями штукатурки стенах всё было обклеено оборванными предвыборными плакатами. Обрывки физиономий кандидатов в «народные избранники» и сами по себе не радовали глаз, но в плохо освещенном подъезде они пялились как вурдалаки из кошмарных снов.
Возле здания Верховной Рады, притоптывая, чтобы согреться в этот ноябрьский день, стояли группы пикетчиков — работники просвещения и науки. На транспарантах были надписи: «Голодный учитель — страна дураков!», «Ученый бунтарь опаснее террориста!» и другие.
Небольшая группа держала плакат, на котором был изображен атом, символизирующий радиацию и рифмованная надпись: «Всi москальскi павуки геть вiд нашоi науки!»
Плакат имел отношение к симпозиуму, посвященному сотрудничеству между Российской и Украинской Академиями Наук. Расхождения между учеными двух стран касались доз радиации после Чернобыля, которые следовало считать опасными для населения Украины.
После ожидания троллейбуса или «маршруток» я подходил к зданию института. На его фасаде красовались яркие рекламы разных размеров, сделанные светящимися красками — «Отделение Правекс-Банка», «Аптека», «Компания Траст-Инвест». Эти фирмы арендовали помещения нашего здания. Среди них потерялась его скромная черно-белая плита с именем академика Р. Е. Кавецкого. Как ехидно заметил один из посетителей, уместным стало другое название: «Правекс-Банк имени Кавецкого».
Возле двери своего кабинета в полутёмном коридоре я наткнулся на толстый закругленный предмет, напоминающий бревно, и чертыхнулся. Бревно поднялось на ноги и ласково завиляло хвостом. Это была собака Милка из вивария. Формально считалось, что виварий работает, но крысы и мыши в клетках на скудном рационе отказывались плодиться, а Милка занималась попрошайничеством.
— Ты здесь не по адресу, — сказал я ей — мы работаем с крысами.
— Как раз она свое дело знает, — раздался пропитой голос в коридоре. Ваш сотрудник Алёша любит собак и её регулярно подкармливает.
От стены отделилась длинная невероятно тощая фигура Богдана. Мастер на все руки, он способен был запустить, а иногда и исправить любой импортный прибор. Теперь он остался единственным умельцем на весь институт. Семьи у него не было, и привязывал его к институту главный энергетический источник — этиловый спирт. Заказы на работу он принимал всегда с утра и выполнял до часу дня. Потом впадал в опьянение и запирался за железной дверью своей мастерской.
— Сегодня, Борис Львович, я выпил спозаранку. Посудите сами: завхоз Халамайда приказал снять вилки с крупных приборов в лабораториях, чтобы, как он выразился, не воровали электроэнергию отделы, у которых задолженность. Среди «воров» больше половины института, в том числе и ваш отдел. Вы бы хоть вмешались и пожаловались директору!
Мы с Богданом были друзьями, и я ему «задолжал». Желая расплатиться, глубоко засунул руку в ящик письменного стола, но не смог обнаружить на нужном месте ключа.
В сейфе хранились материальные ценности, среди которых была самая надёжная советская «валюта» — этиловый спирт. Она привлекала к нам в лабораторию замечательных народных умельцев. Они давно превзошли героя Лескова, подковавшего блоху, став безымянными соавторами методов, на которые мы получали авторские свидетельства.
Стало ясно, что на сейф совершено покушение: вскрыли и вынесли заветный бутылёк.
По неопытности мы вызвали милицию. Меня тут же обвинили в халатности и неправильном хранении материальных ценностей. Неприятности были и у дирекции института.
Богдан не скрывал раздражения:
— Борис Львович, вы совсем как ребёнок, — возмущался он. — Ну-ка, отвернитесь на минуту!
Я послушно сделал разворот на вертящемся кресле, и Богдан с торжеством извлёк из верхнего ящика тумбы письменного стола перепрятанный мной ключ от сейфа.
— Неужели вы думаете, что только я вижу, куда вы прячете ключ после «расплаты»? К вам, извиняюсь, ходят якобы приличные люди, но если приспичит выпить, не посмотрят на приличия. Поверьте, уж в этом деле я соображаю!
По совету Богдана, ключ от сейфа был передан на хранение материально ответственному сотруднику.
Через два дня Богдан на пару с каким-то работягой притащил тяжёлую металлическую дверь, которую они с грохотом сгрузили возле лаборатории.
— Извините, Борис Львович, — хриплым голосом проворчал он. — Вы, конечно, мне задолжали, но я вас очень уважаю. Погуляйте, пожалуйста, где-то часок, зайдите к вашему другу Глузману, а мы пока поставим эту дверь и врежем турецкий замок. Я его так модифицировал, что ни один медвежатник без ключа не отопрёт. Вы святой человек, не слышали, что творится в институте? У вашего коллеги Г. на первом этаже взломали решётку и украли всю компьютерную технику, в приёмной директора ночью посрезали телефоны и факс. Сплошной разбой. Защиту я вам делаю, так сказать, авансом, а разживётесь спиртом, рассчитаетесь, тогда мы вам эту дверь шикарно дерматином обобьем. Как в лучших домах Филадельфии!
Описанные события происходили ранней осенью, а в конце ноября из-за переохлаждения у меня возникло вирусное заболевание — опоясывающий лишай. В местной «коммерческой» аптеке был нужный препарат, но как выразился мой друг, стоимость его могла вызвать недоумение у Моргана-младшего.
Пришлось вместо трёх дней лечиться месяц с помощью традиционных методов. Посетителей в своём кабинете я принимал в верхней одежде и стоя, да и они отнекивались, когда, при температуре в десять градусов, я предлагал им присесть.
Согревались чайком, который кипятили на газе, с нежностью обнимая после чаепития пузатую колбу с кипятком. Впрочем, сотрудники применяли и другие способы обогрева, в которые я перестал вникать, поскольку ключ от сейфа отныне хранился не у меня.
Плохо было с лекарством против гипертонии. В аптеках оно было не всегда, и стоимость месячной нормы превышало уровень моей пенсии. Но Бог пришёл мне на помощь. В данном случае не в переносном, а в прямом смысле. Рядом с нашим домом перед Александровским костёлом в определённые дни выстраивалась очередь: «Благотворительная помощь. Лекарства дают!». Пристроился и я. Польский ксендз, он же и доктор, спросил у меня рецепт. В следующий раз он выдал лекарство, и потом почти три года я получал нужные препараты.
По иронии судьбы, благотворительная помощь была из ФРГ. Так что, приехав на постоянное место жительства в Германию, я уже обладал опытом её получения.
После работы я возвращался в наш старый четырёхэтажный дом, расположенный между Александровским костёлом и обрывом, ведущим к Михайловской площади. Старался избежать встреч со старыми жильцами, подавленными надвигающимся новым укладом жизни. Они перестали чувствовать себя хозяевами не только в своём дворе, но и в квартирах, где оплата становится непомерно высокой. Мы были ошарашены напором «новых русских» (или украинцев), жаждущих купить квартиры, бесцеремонно звонящих в двери, расклеивающих бумажки с отрывными номерами телефонов. Не скрывая презрения, в завуалированной, а иногда и открытой форме, с издёвкой или даже с угрозами эти «новые люди» твердили нам одно и то же: «Берите, сколько дают, и поскорей выметайтесь!»
В нашем узком дворике теснились лакированные «Мерседесы» и «Вольво», сновали коротко остриженные детины с кольцами в ушах и молодые люди с перстнями на пальцах, в шляпах и длинных до пола чёрных пальто.
В доме раздавался скрежет дрелей и пил, стук молотков. В некоторых окнах сверкали белизной новые рамы. Возле гор строительного мусора громоздились картонные коробки и деревянные ящики с импортными наклейками.
«Рубят вишнёвый сад », сказала интеллигентная соседка в бигуди с мусорным ведром в руке. — Вы слышали, на первом этаже обворовали ещё одну квартиру? Надо ставить решётки на окнах и новую дверь.
Это был камень в мой огород. Мы жили на первом этаже. Решётки на окнах пришлось поставить, а на дверь вначале денег не хватило. Тяжело болела мать, которой к тому времени уже минуло девяносто лет. Поэтому в квартире мы не оставляли её одну.
Потом начался страшный период «европейского» ремонта на втором этаже. Ходунами ходили потолки, оставляя паутины трещин и осыпая всю квартиру штукатуркой. Меняли перекрытие между этажами. Потом кухню и ванную заливал тропический ливень, низвергавшийся с потолка. Меняли старые трубы.
Пришлось жаловаться. При советской системе (как и при любой другой) это лучше делать письменно. Я посылал конверты с уведомлением о вручении начальнику ЖЭКа. Прислали комиссию. Те возмутились. Старший «жэковец» поднялся на второй этаж и вернулся через час покрасневший, облизываясь и пряча глаза, как нашкодивший кот.
— Понимаете, дорогой профессор, начал он окая. — Это ж такой народ. Раз они начали — всё равно закончат, и чем раньше, тем лучше для вас. Потом, обдавая меня перегаром, — доверительно добавил: «Эта дамочка сверху не то жена, не то полюбовница министра юстиции. Платит точно он, но через неё. На кого же вы будете жаловаться? Лучше всё по-хорошему, а ремонт она обещала вам в квартире сделать за три дня.
На следующий день после долгого звонка в квартиру ворвалась раскрашенная фифа лет под тридцать с долговязым косноязычным прорабом:
— Чтоб вы знали, мы вам уже сэкономили тысяч пять «баксов». У вас верхнее перекрытие — сплошное гнильё, трубы двадцать лет назад проржавели, — а теперь всё новое! — пробасил прораб.
— Заткнись, Васька, всё дело испортишь, — оборвала фифа. — Прежде всего, просим прощения, профессор и вы, Людмила Петровна, и извинитесь перед матушкой. — Ей сколько? Девяносто два? Дай Бог такие годы и нам всем прожить. Надо подумать о себе, пока еще не поздно. Решайтесь! Квартирку вашу возьмём, хоть она и дряхлая, как ваша матушка. Снимем для вас новую в хорошем районе. Перевезём все ваши книжки и бабушку, дай ей Бог ещё пожить!
— Ты гляди, Васька, — темпераментно воскликнула она, отворив внезапно дверь в мамину комнату, — я ж хотела здесь сделать лестничку на второй этаж прямо в гостиную.
— Так уже ж поставили перекрытие. Поезд ушёл, — горестно вздохнул Васька.
Много лет я не могу забыть обтянутое жёлтой кожей вытянутое лицо матери с открытым ртом. В складках старого стеганого одеяла в такт дыханию вздрагивают кусочки штукатурки. Её тяжёлую болезнь после перелома шейки бедра, полную неподвижность, героические усилия жены, связанные с уходом за больной, борьбу с пролежнями, и моё отчаяние, вызванное беспомощностью.
Спасением тогда казалась только эмиграция, до которой она так и не дожила.
Прошло время, и после получения разрешения на переезд в Германию надо было ставить металлическую дверь.
Наибольшую ценность представляла сама квартира, которую следовало уберечь от грабежа.
Перед отъездом в неё, вызванные по объявлению, ввалились два мужика. Один с металлическими украшениями на шее и куртке, и с «петушком» на гладко выбритой голове. Другой косматый с длинными волосами, весь в «коже» и с крестом на груди.
За минуту сняли и обмерили хлипкую входную дверь. Затем один попросился в туалет, а другой в кухню напиться воды. Они весьма профессионально осмотрели заброшенную берлогу, в которой тридцать лет не было ремонта.
Перед уходом «петушок» спросил:
— Папаша, вы часом, не уезжаете? Может, продадите антикварные вещи, фарфор, хрусталь?
— Продам всё, что видите, — с готовностью согласился я.
— Нам книжки не нужны, у нас уже есть две, — захихикал «петушок».
— И ещё журнал «Человек и закон»,- добавил «крестоносец».
-Скажите, я мог бы я сам купить замок, который вы вставите в дверь? — решительно спросил я.
— Покупайте, врежем любой. Советуем без защёлки. Вы человек немолодой. Со склерозом. Выйдете за газеткой. Дверь тю-тю. Захлопнется. Будете нам звонить по автомату. Телефончик, на всякий случай, запишите. Любой замок откроем, но денег ваших жалко. Вообще, дедушка, сильно тратиться на замки не надо. Все они против мелких домушников, алкоголиков, бомжей и прочих озорников, а настоящие люди, если захотят, откроют любой запор.
Слава Богу, «настоящие люди» пока до моей квартиры не дошли, и я смогу в ней жить, приехав на время в Киев.
***
Квартирные разборки со строителями, здоровье моей матери и кризисное положение в институте не способствовали успешной работе нашего отдела.
Под вечер раздался телефонный звонок, и в трубке неожиданно загрохотал низкий голос директора Института — Вадима Григорьевича Пинчука.
— Не волнуйтесь, Борис Львович. В институте, слава Богу, нет жертв, но произошёл сильный взрыв. Приезжайте, пожалуйста, к вам есть вопросы у милиции и пожарной инспекции.
— Взрыв у меня в лаборатории?
— Нет, но предполагают, что в боксе, где вы проводите работы с рыбами.
Я похолодел и непослушными пальцами начал набирать Мишин номер. Когда в трубке раздался его голос, я чуть не заплакал. Вернулся домой он за пятнадцать минут до моего звонка. С удивлением узнал о взрыве, но подтвердил, что, переходя улицу, услышал странный грохот. А что было бы, если бы он слегка задержался на работе?
Нас с пристрастием вместе со следователем допрашивали пожарник и газовщик. Эти ведомства пытались спихнуть ответственность друг на друга, но ещё больше — обвинить нас с Мишей в халатности.
Тщательное обследование бокса позволило обнаружить только груду стекла и обломки термометров. Газ к боксу мы не успели подключить.
Картина разрушений была внушительной. Взрывная волна, возникнув в левом цокольном отсеке, нарушила три межэтажных перекрытия и повредила пол и потолок в кабинете директора на верхнем этаже. Картина разрушенного бокса с искореженными балками, обломками стен, обрушавшейся штукатуркой очень напоминала то, что мы теперь ежедневно видим по телевидению, но тогда, десять лет назад, никто не подумал о теракте. Однако причину взрыва не установили и по сей день.
* * *
Институт экспериментальной и клинической онкологии, в который я перешёл на работу в 1979 году, после смерти директора был переименован в Институт проблем онкологии, стал академическим, и ему было присвоено имя основателя и бывшего директора Ростислава Евгеньевича Кавецкого.
В годы, предшествующие перестройке, он был единственным крупным учёным, создавшим в биологическом отделении Украинской Академии наук новый институт. Его считали лучшим учеником и последователем выдающегося патофизиолога академика А. А. Богомольца, бывшего президента Украинской Академии.
В трудные годы, как опытный лоцман, Кавецкий умело лавировал между рифами, созданными представителями «мичуринской биологии», стараясь всё же не выходить из кильватера настоящей науки. Для этого приходилось осторожно выбирать боковые течения, и в этом деле он был виртуозом.
Однако большой научный авторитет в Союзе и, особенно, на Украине не делал его всесильным в стране, которая и после смерти «вождя народов» не смогла расстаться со сталинским наследием.
* * *
После смерти Р. Е. Кавецкого место директора занял его заместитель — член-корреспондент Вадим Григорьевич Пинчук.
Его считали баловнем судьбы. Отец В.Г. ещё при Хрущёве стал министром, мать в совершенстве знала несколько иностранных языков. Он рос в кругу представителей элитарной культуры, что было очень редким явлением в послевоенные годы для «верхов», входящих в правительство страны.
Вадим отнюдь не пренебрегал преимуществами, которые ему давал «удачный выбор родителей». В двадцать шесть лет он стал кандидатом медицинских наук, потом, несмотря на разгар холодной войны, два года стажировался за границей.
Его преданность науке была относительной, но, несмотря на множество административных дел, он встречался с друзьями, любил умеренные застолья, они с женой с удовольствием путешествовали, посещали музеи, филармонию. B.Г. был интеллигентным, образованным человеком.
Прошли годы, и он стал, хоть и не без труда, украинским академиком. Несмотря на хороший послужной список, нельзя сказать, что его карьера развивалась без сучка и задоринки. До конца жизни он оставался белой вороной в академических кругах. Причиной такого отношения к нему были некоторые особенности характера, нестандартность этого человека.
При хороших способностях и профессиональных знаниях В.Г. не был по натуре творческой личностью. Само по себе это не служило препятствием для карьеры в Академии, где знания, интеллектуальный уровень многих директоров, членов президиума и академиков был на порядок ниже, чем у него. Но недостаток знаний у них компенсировался активной организационной, хозяйственной деятельностью и интригами.
После развала Советского Союза и появления огромных экономических трудностей в новых независимых государствах стало ясно, что академическая наука в странах, которые в прошлом абстрактно повторяли формулу Маркса «товар — деньги — товар», не имеет товарной ценности, и, следовательно, не может приносить деньги.
Предприимчивые директора институтов начали лихорадочно сдавать свои помещения разного рода фирмам под офисы, конторы, магазины и даже склады, чтобы они оплачивали освещение и обогрев. У наиболее ловких часть денег «прилипала» к руками, и они сами превращались в крупных бизнесменов.
При этом они эксплуатировали наиболее талантливых учёных, заставляя их зарабатывать валюту, «выбивая» зарубежные «гранты».
Имеющиеся новые технологии за бесценок продавались на Запад. Но денег катастрофически не хватало даже на жизнеобеспечение институтов. Возрастали долги по зарплате. Наиболее способные учёные под любыми предлогами уезжали в США и западные страны. Благо железного занавеса больше не было, и учёные могли сами устраивать свою судьбу.
В.Г. не умел делать деньги и отстаивать интересы института, который теперь катился под откос.
Наступил день, когда после жёсткой директивы президиума Академии он вместе со своим заместителем вынуждены были подготовить приказ об изменении структуры института и резком сокращении штатов.
Подобно страусу, В.Г., спрятал голову в песок. Он уехал в мае на курорт в Крым, а разгромный приказ об увольнении сотрудников подписал и вывесил на доске объявлений его заместитель.
Такую тактику до него регулярно применял и Кавецкий, но то, что доступно Зевсу, не подходит для быка.
В институте наступил траур. В списке на сокращение оказались работоспособные и активные доктора и кандидаты наук пенсионного возраста, которым некуда было деваться. Они вынуждены были безропотно ходить на работу, мёрзнуть зимой и не получать месяцами зарплату. Без них институт не мог существовать. В этот же список попали и более молодые сотрудники низкого профессионального уровня, но «социально не обеспеченные» — матери-одиночки, «нарушители трудовой дисциплины», не посещавшие работу в поисках случайных заработков для содержания семьи. Технический персонал, среди которых было немало людей пьющих, и другие. За них яростно вступился местком, состоящий, как водится, из активных и к тому же проголодавшихся бездельников.
Представители месткома и отдельные «заслуженные» учёные ринулись с жалобами к руководству Академии и самому Президенту.
Главным виновником сделали заместителя директора. Президиум Академии потребовал отменить приказ (который точно соответствовал указаниям того же Президиума). Заместителя директора рвали на части, некоторые сотрудники перестали с ним здороваться, и все ждали возвращения Пинчука: «Вот приедет барин, барин нас рассудит!»
Запершись в кабинете, В.Г. с тоской изучал прибывшие бумаги, среди которых были жалобы и решение Президиума заслушать доклад о работе института на специальном заседании.
Крымский загар не мог скрыть его бледности, а в глазах застыл страх. Директор был в состоянии глубокой депрессии, а за дверью секретарша оборонялась от толпы пострадавших сотрудников. Кризис в институте нарастал, и нападки на Пинчука со стороны месткома становились всё более яростными.
Через пару дней в институте произошло ещё одно ЧП.
Много лет в одной из лабораторий в морозильных камерах хранились различные штаммы опухолевых клеток и микроорганизмов. Они были необходимы для научных исследований и широко использовались сотрудниками особенно в последнее время, когда у института не было средств на содержание лабораторных животных. Следил за этими «музейными культурами» пожилой сотрудник, кандидат наук, человек одинокий и пьющий. Он был фанатиком своего дела и яростно добивался своевременного получения материалов, необходимых для жизнеобеспечения этих культур. В один из дней (это был понедельник, тяжёлый день), придя на работу, он с ужасом обнаружил, что в институте отключили электроэнергию, причём произошло это ещё ночью в субботу. Он кинулся к шкафам, и на него вылились потоки воды со льдом. Пробирки с клетками находились в свободном плавании!
Культуры можно было попытаться спасти, погрузив в баллоны с жидким азотом, но их не завезли. Институт задолжал большую сумму денег азотному заводу.
Музейные культуры, хранившиеся десятки лет, за два дня погибли, а их хранитель с горя тяжко запил. За хронические прогулы он был включён в пресловутый «чёрный» список на увольнение.
* * *
Через два дня институт облетела страшная новость о смерти нашего директора.
В пятницу он распорядился прислать домой за ним машину для поездки в Президиум. Шофёр позвонил в квартиру, и дверь ему открыла жена В.Г.
Через две минуты они услышали выстрел, который прогремел в кабинете директора.
Он застрелился из пистолета, который был подарен на фронте его отцу, замполиту дивизии. Патроны нужного калибра оказались новыми, и следствие так и не выяснило, где ему удалось их достать.
Проводы академика и директора института, как и положено по рангу, начались в Большом конференц-зале Академии наук, который был переполнен. Трагическая смерть академика всех потрясла. Панихиды не было, гроб вынесли молча, и траурный кортеж из шести автобусов проследовал на Байковое кладбище.
Смерть Пинчука обрастала всевозможными версиями, одна неправдоподобнее другой: растрата государственных средств, две хирургические операции и инфаркт, который он перенёс незадолго до отъезда в Крым, неизлечимая болезнь, которую он скрывал.
Конечно, решиться на самоубийство можно было только в состоянии душевного расстройства, тем более что его коллеги — директора всех академических институтов в результате кризиса оказались точно в такой же ситуации.
Никто не понял главной причины: несмотря на «советское воспитание», В.Г., человек порядочный и интеллигентный, стал «невольником чести». Он единственный не захотел оказаться в роли «палача» коллектива, с которым проработал многие годы.
Здравомыслящие говорили: «Его убил кризис, убило время». Многим такая версия нравилась в силу своей абстрактности. Но никто не произнёс этих слов публично. Панихиду решили отменить.
Характерно, что на следующий день в административный отдел Президиума позвонил председатель месткома института и поинтересовался, на какие средства покойному директору устроили такие пышные похороны…
Впоследствии, когда железный занавес приподнялся, — появился Сорос со своими «грантами», поддерживающими науку и другие международные проекты, но надо было их умело составлять. Этому мы научились, но две проблемы сделали мою жизнь в институте невыносимой.
Первая — это приписки. Раньше я никогда этим не занимался. В разгар кризиса большую часть времени работать экспериментально мы не могли. Поэтому приходилось использовать в качестве отчётных данные, которые были получены нами раньше. Иначе голодные сотрудники не получали бы зарплату, которую и так выплачивали с большим опозданием.
Самым худшим для меня стала потеря веры в то, чем я занимаюсь.
Биологические изменения, вызванные радиацией у животных и человека под влиянием Чернобыльской катастрофы, были настолько глубокими и необычными, что существующие методы исследования оказались непригодными для их изучения, а новых просто ещё не существовало. Современная наука не давала возможности выйти из сложившегося тупика. Это сознавали многие учёные. По причинам моральным или материальным, из соображений любознательности или просто желания работать они считали необходимым продолжать борьбу. Но в нашем институте условий для подобных исследований не было. После поездок на Запад я это отлично сознавал.
Я не мог идти вперёд, не видя конечной цели, не веря в успех, угнетённый сознанием, что невозможно свернуть с неверной дороги. И поэтому мы решили эмигрировать в Германию.
Ко мне много лет очень хорошо относится молодой директор Института Василий Фёдорович Чехун. Он быстро стал академиком, и навёл порядок в нашем институте. Вот одно из его поздравительных писем, полученное мной через шесть лет после эмиграции: