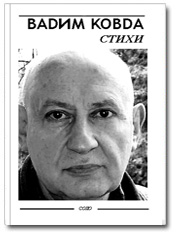
«Всё понимаю, всё разделяю: мысли, чувства, печаль. Стихи… Не могу найти достойного слова, чтобы оценить. Спасибо Вам! Человек, способный так писать, очень нужен людям. Живите долго и пишите свои бессмертные строки!
Дай Вам Бог!»
Елизавета Канибалоцкая
Каждый из нас, так называемых «поэтов-шестидесятников», мечтал хотя бы к концу жизни опубликовать такую книгу: увесистый том, в данном случае темно-зеленый (цвет свободы, цвет всего растительно-живого), и, главное, книга составлена самим автором, никакая цензура, никакой, пусть самый доброжелательный редактор ее не касались. К своему юбилею поэт сумел выпустить своё избранное за несколько десятилетий, за что ему честь и хвала.
Немного предыстории… Во второй половине 60-х, когда не иначе как с небес сыпался на «стихолюбов» (укрепился тогда этот немного странный термин) золотой дождь чаще рифмованных, реже «белых» строк, друг моего детства, теперь известный юрист, направил ко мне своего друга и тезку со стихами. Чтобы высказала своё мнение и, если смогу, помогла напечататься. Это было в порядке вещей. Существовала некая корпоративная связь, шел активный «товарообмен». Те, чьи внешние достижения были на вершок выше, радостно протягивали руку «отставшему». Мы же были одна семья. Через стихи «дети войны», «дети двадцатого съезда» стремились донести до страны, до мира, чуть ли не до вселенной свои ранние душевные потрясения, свою жажду правды и жгучее желание быть честным (В. Войнович, тоже некоторое время ходивший в поэтах, очень точно назвал свою раннюю повесть: «Хочу быть честным»).
Стихи ровесника мне понравились. Я поняла, что Вадим никакой не отстающий. Напротив: он успел больше многих: окончил механико-математический факультет МГУ, дипломированный кинооператор. И пишет уверенной, не подвластной моде рукой лаконичные запоминающиеся строки. Например: «Если только в моё парадное / ходят три пожилых инвалида, / значит, сколько же было ранено? / А убито?»
Прошло немало лет… Заставка, сколько именно лет прошло, более привычная для немого кино, мелькнет на экране – и нет ее; продолжается прерванное действие, чуть медленнее двигаются актеры, чуть гуще кладется на их лица старящий грим. А в действительности-то, Боже мой! Времена – другие! Нравы – другие! Мы – другие!.. Меня волнует в стихах Ковды какая-то отчаянная, иначе не скажешь, рассудку вопреки, верность нашим былым идеалам. И умение сказать об этом без пафоса, пугающе подлинно, с деталями, удостоверяющими правду, одновременно узнаваемыми и в то же время совершенно своими. Так что нередко хочется перебить: «И у меня так было, пусть не совсем так, по-другому. Но ты мне всё это напомнил. Реанимировал одну, другую, третью полосу жизни. Вот спасибо! Как же я сама этого не написала!..»
Замечательным поколенческим стихотворением считаю «Похороны А.Т.Твардовского». Все мы тогда провожали на Новодевичьем одного из достойнейших сыновей России с чувством непоправимой утраты и ощущением гражданской солидарности. Уходил народный поэт, высоко оцененный самим Буниным, непокорный главный редактор лучшего журнала 60-х «Нового мира», много крови попортивший приспособленцам от литературы. Уходил тот, кто воистину «отметился галочкой» в наше доперестроечное, но уже поперечное время. Вдову поэта Марию Илларионовну держал под руку А.И.Солженицын, что было откровенным вызовом официозу.
…И слеза особенного рода
мир разъяла – несколько минут
забивали гвозди в крышку гроба.
Это был единственный салют.
Бухали и вскрикивали доски,
отдаваясь в сердце и в мозгу.
И, казалось, Александр Твардовский
всё сопротивлялся молотку.
А потом мелькнули, поразили
и исчезли в мареве Москвы
скорбный профиль совести России[1]
и седины маленькой вдовы.
Идейная и эмоциональная общность со своим поколением – прекрасное свойство. В историю литературы поэты входят как раз плеядами; потом уже всяческие «веды» разбираются в индивидуальных различиях. Быть «как все» хотел даже Пастернак. Но спокон века ценен поэт как раз противоположным: тем, что думает, чувствует и пишет «не как все»…
С самого начала было ясно, что Вадим Ковда пойдет своей дорогой. Пряталась в его элегичности некая взрывчатость, в утвердительности – некая ехидца, в позитиве – почти непременный негатив. Парадоксальность заложена в самом складе его ума. Длинные его стихи не всегда меня убеждают (можно бы и покороче!), а вот четверостишия и восьмистишия просят себя процитировать: «Сколько истины в том, кто страдает!/Свет живет в том, кто долго страдал./Человек от беды пропадает –/без беды бы и вовсе пропал».
Ну, бед, реальных и воображаемых, у нашего брата (и сестры) невпроворот. Нешуточная общая беда – раздвоенность: между верой и безверием, любовью и безлюбием, идеализмом и цинизмом. А человек с двоящимися мыслями, согласно Библии, не тверд во всех путях своих. Но у Ковды этот широко распространенный недуг приобретает прямо-таки апокалиптические черты. Проблемами становятся для него Русь советская и Русь Святая. Назначенная от рождения приверженность городу и тяга к деревенщине. Желание верности и страсть к измене. Даже две крови, слитые в его существе, попеременно поднимают бунт. Но стоит ли удивляться, спрашивает он себя, когда «Мир человека шаткий и спесивый./На всём лежит бессмыслицы печать…/О том, что дьявол может быть красивым,/я много лет старался умолчать./Но окружали ведьмы, бесы, черти…/Откуда столько? – Чёрт их побери!..»
А вот одно из ключевых стихотворений на ту же тему:
Что за страсти в пути запоздалом?
И куда меня рок поволок?
На лице моем детском и старом
проступают и дьявол, и Бог.
Бог и дьявол, конечно, не пара –
всё орут непонятно о чём,
всё ведут толковище и свару
в неприкаянном сердце моём.
Что за жребий такой злополучный!
Никому не могу услужить.
И без дьявола вроде бы скучно…
А без Бога не стоит и жить.
Вспоминаю, как бродили мы вдвоем по стежкам-дорожкам подмосковного дома творчества и говорили…о главном. Как оставаться на плаву в литературе, не теряя лица?
Как зарабатывать на жизнь своим творчеством, а не идти в истопники и сторожа, что получило тогда, во второй половине семидесятых, заметное распространение среди пишущих. Я предлагала «пятиборье» (стихи-прозу-переводы-выступления-руководство лито). Вадим твердо держался за малодоходную поэзию. И, думаю теперь, был прав. Не разменивался на рецензии и прочие поделки. Всеми способами поддерживал в себе внутреннюю свободу и поэтическое настроение. Написал больше меня. Выпустил больше книг стихов. Правда, пришлось и сторожем поработать. Но это уже во времена перестройки, когда надо было выживать.
И о религии говорили. О вере. Он слушал мои убежденные речи с недоверием. Вера или дается человеку или нет. Искусственно ее не взрастишь. Честность перед самим собой не позволяла ему позаимствовать или взять в долг у другого то, что не укоренено в собственной натуре…
В итоговой книге три основных мотива: любовь, природа, Бог. Не мне судить о том, почему у поэта такая рвущаяся, болезненно-самолюбивая и неблагополучная интимная лирика. В конечном счете, поэзии такие перепады на пользу. Но вот каково с ними жить?!
Где только не грешил он со своей музой – олицетворением женственности! В молодости заносило в высокие сферы: «Полюби меня по-старинному,/и слова говори красивые… Закружи меня! Заколдуй меня!/Научи себе не противиться…» Соблазняли его «длинноножки» и неверные жены. Укоряла своей правотой «единственная женщина» – законная супруга. Жаждал иной любви, умирал без любви. Даже самое Смерть приглашал возлечь рядом на любовное ложе. А что осталось?
Пуста ладонь. Ушли меж пальцев годы.
Пуста душа. Охладевает кровь.
Но кто-то странный, очень странный кто-то
всё шепчет мне, что ты моя любовь.
Порой пишет он на грани риска. Прежде всего эстетического.
Кроме любви-страдания, любви-прощания и любви-безнадежной надежды, есть у него и стихи, которые проще всего отнести в духе времени к эротическим. Хотя, отталкиваясь от мнимого эротомана в поэзии Батюшкова, я бы скорее назвала их скабрезными. Почему? Эротика притягивает, эротика – всегда немного тайна. Скабрезность, где всё наружу, – отталкивает. Таков, на мой взгляд, «Русский Казанова», памяти Ивана Баркова. Где вещи названы своими именами. С автора, как говорится, и взятки гладки. И все-таки… Вообще учить чему-либо давно сложившегося поэта – нонсенс. Рекомендовать же ему, особенно если автор рецензии – женщина, как надо грести противоположный пол (пользуюсь эвфемизмом самого В.К.), писать или не писать об этом, – глупость. Как выразился бы мой отец, не знавший Вадима, «оправдываться будете на Страшном Суде»…
Свято место пусто не бывает. И там, где дефицит любви к женщине, навсегда поселилась любовь к страдалице-матери, к покинутой дочери, к Природе, которая тоже женского рода.
Для потомственного горожанина, москвича, такой зрящий красоту окружающего глаз, такое слышащее теньканье птиц ухо, как у Вадима Ковды, – редкость.
Тонкие, чистые свисты синиц…
Редкие крики неведомых птиц.
Жухлые травы, гнилые листы.
Блеклые, чуть голубые цветы.
…В графике этой совсем уж простой
воздух тончайшей сквозит красотой.
Вечер, душой не моей ли согрет,
льёт истончённый, серебряный свет.
Однако пантеистом его не назовешь. Есть для него Некто и над природой, над Пушкиным и Бахом, и, сын матери-еврейки, он пишет не Б-г, а как принято в России – открыто, полнозвучно, свободно. Настолько свободно, что дерзает говорить от Его имени, как в стихотворении «Обращение Бога к человеку»:
Прости, что слабый ты и тленный,
Хоть смел и горд не по летам.
Велик твой разум драгоценный,
но счастья Я тебе не дам…
Не знаю, как отнесутся к этим стихам богословы и зашоренные ортодоксы (такие есть во всех конфессиях!), но, считая себя человеком верующим, цитирую эти строки без тени смущения. С пониманием. С сочувствием. Потому что в них уловлено что-то очень важное для человека, выраженное, впрочем, в народной пословице «с бородой»: «На Бога надейся, а сам не плошай». Что не умаляет значительности продолженных ниже строф:
…Не улететь тебе ко звёздам,
не разорвать рассудка тьму.
Прости… Прости – тебя я создал
лишь по подобью своему…
Как я устал… как мало проку.
Сомненья бродят по пятам.
Я удаляюсь, слава Богу…
А ты ищи свою дорогу.
Попробуй сам… попробуй сам.
Стихи написаны двадцать лет назад, но не устарели. Похоже, автор, всегда стремившийся к самостоятельности, проживший свой неполный век зигзагообразно, путано, как все мы, грешные, принял к сведению собственные слова, вложенные в уста Творца Неба и Земли. «Попробовал сам» и сделал решительный шаг, продливший ему жизнь. Узнав о смертельном диагнозе, не сложил ручки, а переехал туда, где будут его лечить, независимо от звона монет в кармане.
Созданные им в Германии стихи, на мой взгляд, не лучше и не хуже написанных ранее. Горькие, правдивые, искренние… В заключение хочется сказать о другом. В Москве, где бываю регулярно, как и Вадим, я услышала от нашего общего товарища нечто дикое. Ковда, мол, пишет раздраженные стихи о своей немецкой доле, чтобы понравиться… в России. Удостоверяю, что ни Вадим, ни я, да и никто из наших сестер и братьев по поэзии совершенно не озабочен тем, чтобы кому-то понравиться тут или там. Мы писали и пишем, как велят душа и совесть. Жизнь везде сложна, бывает, что и мучительна. Везде задает она лучшему созданию Божью массу безответных вопросов. А у поэта, независимо от размера дарования, своя масштабная линейка, с преувеличенными делениями. И разве не сказал немецкий гений во времена относительного благоденствия, что трещина, разделяющая мир, проходит через сердце поэта?
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
