Эмиграция, иммиграция
Непредусмотренное предисловие
Откровенно говоря, я не собирался и не стремился уезжать из СССР или из России. Родственников заграницей (как писал в анкетах, и это была правда) у меня не было.
У Раи где-то в Израиле был дядя, уехавший туда ещё до революции, но связь с ним была давно потеряна.
В 1990 году из Минска в Израиль уехала племянница (дочь моего брата Исаака) с семьёй и родителями мужа. В 1991 году за ними уехал мой брат с женой, а с ними наши родители и тётя Роза. В конце 1992 года я впервые в жизни выехал заграницу, и это был Израиль. Но и после этого никаких мыслей о возможном отъезде не было.
Я занимался своим делом. Дела шли нормально, можно даже сказать, хорошо. Бывали, конечно, перебои с оплатой, но я нашёл выход из положения: нашей группой по моему предложению были составлены многотомные детальные обзоры минерально-сырьевой базы территории Ленинградской (1992 г.), а потом и Новгородской (1993 г.) областей, — они были приняты в областях с энтузиазмом и оплачивались из областных бюджетов, — так что и в отношении регулярности выплаты жалования особых перебоев не было.
Мои отношения с советской властью были, можно сказать никакими: она нас не трогала, а мы на неё не обращали особого внимания. В науке мне особо никто не мешал, в коллективе у меня было прочное и достаточно высокое положение. Ни дачи, ни автомашины у нас никогда не было, а книги в те времена уже не являлись предметом роскоши или зависти, — так что терять нам особо было нечего.
О том, что с советской властью не всё благополучно, было понятно задолго до перестройки. Не говоря о многочисленных брошенных деревнях; о пашнях, заросших лесом; о чудовищной нищете, пьянстве и безразличии к жизненным условиям сельского населения, — было очевидно, что государственная машина не только пробуксовывает, но давно уже едет в никуда.
Из конкретных свидетельств этого вспоминается несколько запомнившихся эпизодов:
Генерал, и столик из карельской берёзы
Как-то возвращаюсь из очередной поездки в Пудож. Прихожу на вокзал в Петрозаводске и загодя сажусь в поезд. Вдруг слышу какой-то грохот из коридора. Выглядываю: по коридору парадным шагом, высоко вскидывая ноги и с грохотом опуская их на пол вагона, вышагивает прапорщик, а на вытянутых руках у него газетный столик из карельской берёзы. За ним спокойным шагом идёт высокий молодой человек в генеральских погонах. На вид этому генералу лет 25! Потом с тем же грохотом прапорщик проходит обратно, но уже без столика. Это был презент! Выглядываю в окно: на перроне стоит кучка полковников, по своей конфигурации напоминающих одетых в шинели пузатых тараканов, — это группа сопровождения! Понимаю — провожают какую-то московскую штучку, посетившую их с очередной инспекцией…
И ещё из армейских нравов
Мы едем на Кольский. Машина (ГАЗ-69) с прицепом — оба перегружены. Раз за разом лопаются рессоры. Хорошо, — водитель захватил запасные. Раз за разом меняем «листы». Но вот запас исчерпан. Пару раз удаётся добыть коренные листы за стандартную цену — две бутылки. Наконец приезжаем в Кандалакшу. Водитель сообщает, что полетел очередной лист. Выдаю ему сумму на две бутылки и отправляю на поиски. Проходят часа три-четыре. Появляется шофёр и сообщает, что теперь у нас с рессорами не будет проблем аж до самого Ленинграда. При этом он достаёт из карманов две профинансированные мной бутылки (?!!?)
Оказывается, он подъехал к военному складу. Там встретил какого-то старшину, который, на его счастье, оказался сотрудником этого склада, а тот попросил подвезти от магазина домой холодильник. После этого он завёл его в склад и предложил выбирать любые запчасти для автомашины. Вот он и забил прицеп рессорами (в сборе), крестовинами и другими остродефицитными деталями. Обратно, в Ленинград мы ехали уже без проблем.
Думаю, что у водителя ещё долго потом не было проблем с запасными частями.
Проблемы были у советской власти.
Гостиница в Медвежьегорске
В той же поездке. Мы добираемся до города Медвежьегорск. Подъезжаем к городской гостинице. Первое, что мы видим — привычное «Мест нет». Подхожу к дежурному администратору. Впереди меня стоит какой-то молодой человек с дамой. Оформляют номер. Он требует номер «с видом на озеро». От других предложений отказывается. В качестве «аргумента» протягивает дежурной красную книжечку с гербом СССР. Заглядываю через плечо: какой-то комитет Совмина. Дежурная пугается красной книжицы и выдаёт ключи от заветного номера. А мне тут же указывает на табличку. Трудно воспроизвести всё то, что я сказал этой бедной женщине. В ответ она грозит вызвать милиционера. Но потом, немного поостыв, выдаёт нам ключи от шестиместного номера. Конечно, мы рады и этому — была бы крыша над головой. Это власти на местах…
Несколько этюдов из моей деятельности в качестве куратора СЗПГО
Я уже писал о своей деятельности в качестве куратора «по геотектонике и геодинамике».
Система кураторов была достаточно давно внедрена в практику работы объединения (а до того — управления). Это была странная система: самому носителю этого звания она ничего, кроме хлопот, не давала — ни прибавки к зарплате, ни дополнительного времени, ничего. Разве что повышала его неофициальный статус в геологической среде. А вот хлопот этот статус носителю его приносил достаточно. В обязанности куратора входил просмотр, оценка и комментирование отчётов по его профилю, а также выполнение некоторых приватных поручений главного геолога Объединения. Иногда куратора приглашали на совещания при Руководстве, — когда это касалось специальных научных или околонаучных проблем. Мне, например, приходилось в массовом порядке просматривать геофизические отчёты. И хотя я понимал, что меня иногда втёмную используют во внутренних разборках между Генеральным директором и Главным геофизиком объединения или между тем же Главным геофизиком и начальниками некоторых экспедиций, но я старался вести себя корректно по отношению к конфликтующим сторонам, а главное, — к своим коллегам — геологам и геофизикам.
Впрочем, я понимал, что своей деятельностью в качестве куратора, я помогаю не только Главному геологу объединения В. В. Проскурякову в его нелёгкой работе, но по мере сил помогаю и коллегам — в повышении качества их продукции.
Кое-кто понимал эти мои мотивы и благодарил, кто-то обижался. Но это ведь жизнь…
Впрочем, бывали и более сложные обстоятельства. Вот некоторые из них я и хочу вспомнить.
Дамба
Однажды в комнату, в которой располагалась наша группа и в которой для меня при помощи шкафов было выделено некоторое подобие кабинета, постучался какой-то неизвестный посетитель.
Вошёл и на вопрос о Д. И. Гарбаре был препровождён в этот самый пресловутый «кабинет».
Представляясь (фамилии сейчас не упомню), он сказал, что направлен ко мне главным геологом СЗПГО тов. Проскуряковым.
На вопрос, чем я могу быть ему полезен, он достал какую-то бумагу и протянул её мне.
Первое, что бросилось в глаза, была широкая красная полоса в верхней части бумаги. В прошлом мне уже приводилось видеть такие бумаги — это были отношения из Ленинградского обкома КПСС или ВЛКСМ. Эта была из Обкома КПСС (!). В бумаге, адресованной Начальнику СЗПГО тов. Хрусталёву Н. Н., выражалась просьба оказать содействие подателю сего в вопросах геологических консультаций коллектива проектировщиков и строителей Ленинградской Дамбы.
На бумаге стояла надпись Н. Н. Хрусталёва: «Главному геологу СЗПГО тов. Проскурякову — оказать максимальное содействие». Ниже надпись Проскурякова: «Д. И. Гарбару, — прошу рассмотреть и дать необходимые консультации. Копию Заключения прошу предоставить мне». Итак, я оказался крайним.
Спросил, что от меня требуется? Оказалось, что им нужно заключение о геологических и, главное, сейсмических условиях Финского залива, и в частности, самой «Маркизовой лужи» («Марки́зова лу́жа — ироничное, фольклорное название Невской губы —
части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, либо всего
Финского залива», Googl).
Преисполненный ответственности за выполнение столь важного поручения, я сказал, что для этого потребуется комплект космических снимков, которые в те поры были секретными, и в Первом отделе нашей экспедиции отсутствовали. Посетитель сказал, что эта задача вполне решаема, — с чем и отбыл восвояси. Действительно, через пару дней меня вызвали в Первый отдел и под расписку вручили конверт с космическими снимками.
Надо ли говорить о том, каково было качество этих первых снимков?! Но даже на них было видно, что поперёк Финского залива, в аккурат через остров Котлин проходит достаточно различимый линеамент, позволяющий предполагать, что он фиксирует некий разлом… Имеющаяся в нашем распоряжении (составленная Таней Лазаренковой ещё для Карты разломов Северо-Запада) карта эпи- и гипо-центров землетрясений Северо-Запада указывала, что в районе этого разлома неоднократно фиксировались землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Всё это я написал в Заключении, которое, вместе с присланными космическими снимками той же спецпочтой отправил адресату.
Копию Заключения передал в секретариат Главного геолога.
На этом моё участие в судьбе Ленинградской Дамбы на этой стадии закончилось.
Кронштадский футшток
Прошло пару лет. Строительство Дамбы было в полном разгаре. И вдруг очередной звонок: В. В. Проскуряков просит меня зайти. Захожу. Владимир Валентинович вертит в руках какую-то бумагу и говорит, что через пару дней в Географическом обществе состоится «узкое совещание по проблеме Кронштадского футштока», и он просит меня принять участие в этом совещании.
В назначенный день и час прихожу в известное здание в Гривцовом переулке.
В зале относительно немного народу. Среди собравшихся замечаю того самого человека, который приходил ко мне в связи со строительством Дамбы. Он тоже узнаёт меня. Садимся рядом. Пока народ собирается, я шёпотом спрашиваю его, как дела со строительством? Он отвечает, что оно идёт полным ходом. Ну, а как же с ответственностью за пренебрежение моими предостережениями? Он говорит, что Главный строитель уже «прикрылся от ответственности» — могильным камнем, а остальные, вероятно, к концу строительства последуют за ним… Потом он добавил фразу, которую я помню до сих пор: «Вы думаете, эта дамба от воды? Нет, эта Дамба от воров!». На мой недоуменный взгляд он разъяснил, что под прикрытием разговоров о наводнениях в Ленинграде списывалось и списывается неимоверное количество продуктов и других материальных ценностей. Вот теперь эта Дамба и должна уменьшить ожидаемый ущерб. Пока мы так переговаривались, в зал вошёл Борис Николаевич Делоне («Бори́с Никола́евич Делоне́, 15 марта 1890 года, Петербург — 17 июля 1980 года, Москва — русский и советский математик; альпинист. Член-корреспондент АН СССР с 1929 года. Сын математика Николая Делоне, отец физика Николая Делоне, дед поэта и правозащитника Вадима Делоне», Википедия), приехавший из Москвы в качестве председателя нашей комиссии. Представился и пригласил к совместной работе. Из выступления Б. Н. Делоне мы узнали, что вся триангуляционная система СССР, а с недавних пор и всего «демократического лагеря» привязана и базируется на данных, получаемых от Кронштадского футштока.
После вступительных слов и представлений участников было решено для начала съездить на место, где собственно, и находится этот пресловутый футшток, то есть в Кронштадт.
Поскольку Кронштадт в те поры считался режимным городом, нам было предложено оставить свои данные и ждать оформления разрешений на посещение. Это заняло несколько дней.
Наконец, разрешения получены. Мы собираемся всё у того же здания Географического общества и отправляемся в гавань. Оттуда катером нас доставляют в Кронштадт, где Комиссию ожидает представитель коменданта города в чине капитана второго ранга (подполковника).
Экскурсия начинается с центральной площади. Затем нам показывается здание гимназии, в которой по словам сопровождающего учился (и, между нами говоря, за слабую успеваемость «по латыни» был исключён) будущий светоч российской и советской науки академик Пётр Леонидович Капица. Потом нам показали ещё какие-то достопримечательности города. И, наконец, футшток! Вот что написано о нём в Википедии: «Кроншта́дтский футшто́к — футшток для измерения высоты уровня Балтийского моря, установленный на устое Синего моста через Обводный (Проводной) канал в Кронштадте. От нуля Кронштадтского футштока (в рамках Балтийской системы высот) на всей территории бывшего Советского Союза производятся измерения абсолютных высот. Кронштадтский футшток — один из старейших в глобальной сети уровневых постов Мирового океана. С 1707 года в Кронштадте действует футшточная служба. В 1840 году по предложению гидрографа Михаила Францевича Рейнеке, в течение 15 лет проводившего кропотливые измерения уровня моря, на каменном устое Синего моста через кронштадтский Обводный канал нанесена черта, соответствовавшая среднему уровню воды Финского залива по наблюдениям 1825–1839 годов. Многолетние позднейшие измерения подтвердили точность измерений М. Ф. Рейнеке, корректировка не потребовалась. В 1871–1904 годах астроном В. Е Фус из астрономической обсерватории в Кронштадте осуществил нивелирную связь нуля Кронштадтского футштока с марками на материке. В. Е. Фусу принадлежит большая заслуга в решении вопроса об основном нуле высот России. В 1886 году астроном-геодезист Ф. Ф. Витрам на месте нулевой метки вделал в камень медную пластину с горизонтальной чертой, которая и представляет нуль Кронштадтского футштока. В 1898 году в деревянной будке был установлен мареограф— автоматический прибор, постоянно регистрирующий уровень воды в колодце относительно нуля футштока. Чуть позже мареограф перенесли в небольшой павильон с глубоким колодцем[1]. Самописец мареографа фиксирует колебания моря, отмечая и отливы и наводнения. Постройка современного здания, в котором расположен мареограф, относится к советской эпохе. Мареограф полностью автоматизирован и его показания в реальном времени передаются по линиям связи. Тем не менее, в соответствии с традицией четырежды в сутки показания снимаются метеорологом вручную с бумажного самописца. В 1913 году заведующий инструментальной камерой Кронштадтского порта Х. Ф. Тонберг установил новую пластину с горизонтальной чертой, которая и служит до настоящего времени исходным пунктом всей нивелирной сети России. От нуля Кронштадтского футштока производятся измерения глубины Балтийского моря и абсолютных высот на всей территории России. Географические карты равняются на Кронштадтскую точку отсчёта».
И вот теперь, как нам сказал наш председатель, в связи с постройкой Дамбы судьба футштока оказалась под угрозой: Дамба должна была преградить доступ вод мирового океана и сделать показания футштока бессмысленными.
Надо сказать, что мысль о бессмысленности всего этого пришла мне в голову, как только я увидел, что каждые 15-30 минут по мосту, к опоре которого прикреплён этот самый футшток, проносится огромный трейлер, на котором находится огромный же катер — возможно, это торпедный катер (?). Под тяжестью проносящейся махины и сам мост, и все его опоры начинают ходить ходуном. Но, видимо, на «качество» отсчётов это не влияет.
Комиссия постояла у Синего моста, потом, тихо переговариваясь, вернулась на пристань.
Сходу решили заодно осмотреть и так называемые «марки» — места выноса Кронштадского футштока на материк.
Таких «марок должно было быть три. Уже не помню, где они должны были быть расположены. Помню только, что на месте одной из них мы обнаружили яму — здесь поработали строители, которым эта «марка» чем-то мешала; на месте второй «марки» оказалась тоже яма, залитая водой (впрочем, по словам проводника, сама «марка» находится в этой самой яме); третья «марка», слава Богу, оказалась в целости и сохранности. На нашего председателя страшно было смотреть.
На следующий день комиссия собралась в Гривцовом переулке. Было решено, что каждый её член напишет заключение по своему разделу и передаст его в распоряжение председателя. На том и разошлись. Мы с коллегами написали заключение по геологии и тектонике и передали его по инстанции. Копию я опять передал в секретариат Главного геолога. Какова дальнейшая судьба Кронштадского футштока не знаю. Но, судя по тому, что самолёты, ракеты и спутники летают и по большей части аккуратно приземляются, а корабли (в том числе и подводные) в большинстве случаев успешно возвращаются в места своего базирования, — судя по этому, триангуляционная система страны, основанная на показаниях Кронштадского футштока, стоит неколебимо.
Метро
Ленинградское метро, — наверное, незаживающая рана Ленинграда.
Вот что написано об этом в Википедии:
«В 1950 году под площадью Восстания останавливали плывун повышенным давлением.
В 1954 году методом рассольного замораживания ликвидировали последствия катастрофы при строительстве «Автово».
Из-за затопления тоннеля на «Пушкинской», в 1956-м, вход на станцию достраивали уже после торжественного пуска.
В 1958 году на пути тоннеля к «Чернышевской» оказался Ковенский размыв — древний рукав Невы.
Просадка грунта при строительстве станции «Невский проспект» в 60-е годы привела к сносу и последующей реконструкции нескольких зданий.
Между «Елизаровской» и «Ломоносовкой» во время строительства в тоннель прорвался плывун из смеси воды и песка…»
О просадке грунта при строительстве станции «Невский проспект» я помню: вода, вырвавшаяся из метро, залила Невский проспект в районе Гостиного двора. Одним из следствий этого было снесение здания на Перинной линии. Между прочим, в сносимом здании находилась и наша Ленинградская экспедиция, которую в этой связи перевели в помещение бывшего архива Французского банка (улица Герцена, дом 30).
Фасад здания на Перинной улице восстановили в виде портика, выходящего на Невский проспект.
Потом было ещё несколько происшествий, в том числе и известный прорыв 1974 года, по которому даже был поставлен фильм «Прорыв», основанный на реальных событиях.
Наша экспедиция принимала активное участие в ликвидации этого происшествия — буровики ЛКГЭ пробурили огромное количество скважин, в которые закачивался азот — для заморозки.
Но с проблемами Ленинградского метро мне, как куратору СЗПГО, пришлось столкнуться гораздо позже — после прорыва вод на перегоне «Лесная» — «Площадь Мужества». Это было для меня тем более актуально, что мы жили в районе станции метро Академическая, и проблема отсутствия транспорта возникала передо мной, как минимум, два раза в день — утром и вечером.
Однажды меня в очередной раз пригласил к себе Главный геолог СЗПГО и попросил принять участие в общегородской конференции по проблемам Ленинградского метро. То что конференция собралась в здании Горисполкома, в Мариинском дворце, подчёркивало придаваемое ей значение. Отправился. Представился. Был приглашён войти в зал.
Зал заседаний постепенно заполнялся. Среди присутствующих было достаточно много лиц, знакомых по предыдущим встречам. Наконец кто-то из руководителей объявил конференцию открытой. На трибуну вышел человек, представленный в качестве главного геолога Ленметростроя. Он долго, с демонстрацией карт, схем и таблиц рассказывал присутствующим о планах и реалиях его организации. Наконец он закончил. Вопросы.
Среди прочих задаю свои вопросы и я. Спрашиваю: есть ли у проектировщиков и строителей-проходчиков геологическая карта Ленинграда? Отвечает невнятно. Задаю следующий вопрос: а до каких глубин изучается геологическое строение территории Ленинграда? Отвечает — до уровня кровли кембрийских глин. Вопрос: а знают ли проектировщики что-нибудь о глубинном строении территории и о её тектонических особенностях? Ответ — это нам не требуется, — мы ведь ведём проходку в кембрийских глинах, которые сами по себе водонепроницаемы…
После окончания вопросов и ответов прошу слова. Конечно, собираясь на это совещание, я немного готовился. Но главным было то, что на протяжении многих лет наша экспедиция принимала участие в решении некоторых вопросов геологии Ленинграда (я уже писал о бурении скважин для заморозки грунтов). Были и другие работы, — в частности, мои коллеги, среди которых после окончания Горного института был и наш старший сын Леонид много лет составляли комплект карт так называемого Большого Ленинграда (я помню, как они жаловались на метростроевцев, которые отказывали им в доступе к тысячам пробуренных изыскателями скважин…).
Ну, и конечно, наши работы по тектонике — до и после составления Карты разломов предоставили мне массу материала. Пришлось в десятиминутном выступлении сказать и о том, что Ленинград расположен на стыке нескольких глыб в фундаменте; что по швам этих глыб и сейчас фиксируются подвижки; что именно на границах этих глыб отмечается нарушение сплошности кембрийских глин; что эти глины в массе пластичны и при наличии воды могут и сами по себе создавать угрозу, что к местам нарушения сплошности приурочены все водотоки в пределах Большого Ленинграда, что известные линзы песка-плывуна тоже контролируются тектоническими причинами, что… Время, отведённое мне, закончилось. На докладчика-метростроевца жалко было смотреть. Были и другие весьма интересные выступления. Конференция завершилась принятием резолюции о необходимости составления «полнокачественной» геологической основы. Мне было поручено составить Записку о проблемах и задачах глубинного изучения территории. С этим и разошлись. Доложил о виденном и слышанном Проскурякову. Он сказал, что надо определиться с финансированием. А пока просил меня набросать хотя бы тезисы. Набросал… Что было потом, не знаю. Боюсь, что ничего. Видимо, до очередного прорыва или провала.
Башня
В один прекрасный день раздаётся звонок. Опять звонит В. В. Проскуряков: «Давид Иосифович, зайди ко мне, пожалуйста». Спускаюсь со своего пятого этажа на его третий. Без лишних слов он показывает мне очередную бумагу, которая гласит, что какая-то высокая городская организация просит его прислать своего представителя для обсуждения перспектив строительства в Ленинграде небоскрёба. Где собираются строить, кто собирается строить, зачем, — не указано.
Просит сходить, поучаствовать. А потом проинформировать его. Соглашаюсь. Иду.
Не помню уже, где это было, но где-то в центре. Среди собравшихся много знакомых лиц, — я уже становлюсь завсегдатаем такого рода мероприятий.
По мере моего участия в них и мои выступления стали относительно стандартными. Убедившись в том, что авторы очередного проекта никоим образом не знакомы с геологическим строением территории, и её структурно-тектоническими особенностями, я сообщал им некоторые данные на этот счёт. Обычно это вводило авторов в ступор. Так было и на этот раз с проектировщиками небоскрёба. Правда, думаю, что мои предупреждения для них особого значения не имели, а очередные докладные записки клались под сукно.
Во всяком случае, недавно, уже в Германии я узнал из интернета об очередном проекте постройки небоскрёба в Санкт-Петербурге — пресловутой «Башни Газпрома». Я даже подписал некую интернет-петицию против этого. Боюсь, что она не окажет влияния ни на проектантов, ни на заказчиков, ибо нет предела человеческому тщеславию (и, конечно, человеческой некомпетентности).
«Одного из кураторов я слышу почти 8 часов ежедневно»
А вот один, очень коротенький рассказ из жизни куратора, переданный мне кем-то из заместителей Генерального директора нашего СЗПГО.
Надо сказать, что в этом качестве довольно долго пребывал Николай Николаевич Хрусталёв, человек почти двухметрового роста, мощного телосложения и достаточно сильного темперамента.
Его и в глаза, а больше за глаза, называли «генералом», и, видимо, ему это нравилось. Мои отношения с Н. Н. Хрусталёвым были достаточно отдалёнными: я старался не прибегать к нему, пользуясь своими отношениями с главным геологом, хотя иногда мы и встречались на каких-то совещаниях, на заседаниях научно-технического совета СЗПГО.
Руководство Объединения (в прошлом Управления) располагалось на третьем этаже. Наша экспедиция — на пятом. И надо же было так случиться, что окна нашей комнаты находились почти над окнами кабинета генерального директора. Телефонная связь в те поры работала неважно, и чтобы дозвониться до буровых отрядов, работавших на границе Вологодской и Архангельской областей (мы искали там трубки взрыва и алмазы), приходилось достаточно часто орать во всё горло. Если я иногда доставал до таких удалённых уголков, то уж третьего этажа мои вопли достигали точно. Видимо, это не всегда ему нравилось.
Однажды, когда тот, кто мне это рассказывал, предложил Хрусталёву посоветоваться с кураторами, тот ответил, что «одного из этих кураторов он слышит регулярно и почти 8 часов ежедневно». И, видимо, что-то добавил ещё…
Этим я и позволю себе закончить раздел о своём кураторстве.
Несколько «кураторских» слов в Заключение
Заканчивая этот раздел, я хотел бы возвратиться к т. н. «проблеме Дамбы».
Уже находясь в Германии, я узнал, что последние исследования, проведенные геологами и геохимиками в акватории Маркизовой лужи, показали многократное увеличение содержания вредных химических элементов в её «зарежимленной» части. Кроме того, изменение условий циркуляции вод в акватории привело к агрессивному размыву некоторых берегов залива. Случилось именно то, о чём мы предупреждали организаторов и проектировщиков этого бессмысленного строительства. Теперь остаётся только подождать, когда естественные тектонические процессы приведут к разрушению этого творения рук человеческих.
Божья мельница вертится. Правда, медленно. Но непрестанно и неуклонно.
P. S. Между прочим, насколько я знаю, по мнению специалистов основной составляющей так называемых «ленинградских наводнений» является, отнюдь, не пресловутая «нагонная волна», идущая со стороны Финского залива, а ветровая волна, останавливающая невские воды. Вот эти-то воды и выходят из берегов и затапливают низины города. Думаю, что это будет продолжаться, ибо останавливать ветер с Балтики Дамба не может, а люди ещё не научились…
«Человек с ружьём»
Через один или два сезона, видимо, под влиянием моих рассказов о встречах в поле (и не только с дикими зверями, но и, что гораздо опаснее, с двуногими) папа купил в Минске охотничье ружьё и, оформив моё членство в Обществе охотников и рыболовов БССР, привёз мне всё это плюс патронташ в качестве подарка.
Ружьё было марки ИЖ-58, двустволка-бескурковка, калибр 16.
Я был очень горд приобретением. Покупал патроны, учился разбирать и собирать оружие, В зимнее время ружьё в разобранном виде, в брезентовом футляре, сначала висело на стене, а по мере взросления сыновей и проявления ими хотя и слабого, но естественного интереса к оружию, из соображений безопасности перекочевало на антресоли.
Первые время я регулярно брал ружьё в поле и мужественно таскал его в маршруты.
С душевным облегчением должен сказать, что крови ни на мне, ни на ружье почти не было. Только один раз ночью, возвращаясь из маршрута, я с перепугу выстрелил по вылетевшей из кустов птице. И надо же было такому случиться, — попал. Оказалось, что это сова. Уже в этот же вечер мне было показано, что я совершил грех, — именно тогда нас и обстреляли в овсах, приняв за медведей. Слава Б-гу, дело обошлось этим. Но больше из ружья я не стрелял. Тем не менее, с ружьём связано несколько острых переживаний.
О первом я рассказал выше
Второе, — это поход на охоту за тетеревами. Дело было в Новгородчине. Я приехал на одну из скважин для описания керна и проведения откачек. Старший буровой мастер, уже упомянутый Павел Иванович Касимов — человек огромного роста и крупного телосложения, увидав у меня ружье и, видимо, решив наладить со мной отношения (как-никак от проставляемых мной категорий по буримости зависела зарплата бригады…), пригласил меня пойти на тетеревиный ток. Отказаться было неудобно. Рано утром, ещё в темноте, Павел Иванович разбудил меня. Мы быстро собрались и пошли. Было весьма морозно. С нами были лыжи, а на поясе Павла Ивановича висело несколько тетеревиных чучел, взятых им у хозяина избы, в которой квартировала бригада. Пришли. Нашли заранее приготовленный шалаш. Павел Иванович развесил на ближайшей рябине принесенные чучела (он называл их «чучалки»). Забрались в шалаш и стали ждать. Недосып, тёплый полушубок, темнота и кромешная тишина привели к естественному следствию, — я задремал. Проснулся от толчка в бок. Мой проводник шёпотом сказал, что тетерева прилетели и указал на рябину. Действительно, там виднелось несколько тёмных пятен. Прицелился в самое крупное пятно и… выстрелил. Птицы с шумом взлетели и улетели невесть куда. Павел Иванович выскочил из шалаша. Вылез и я. Думаю, что подобного монолога эти кусты не слышали никогда. Оказывается, я расстрелял одну из «чучалок» — да так, что от неё остались только клочья. Охота была закончена. Не знаю, как П. И. разобрался с хозяином, но на меня он ещё долгое время смотрел весьма недоброжелательно. И никогда больше ни на охоту, ни на рыбалку (которую он тоже уважал) не приглашал, хотя отношения наши со временем стали вполне дружескими.
Третий раз проблема с ружьём возникла в ходе операции «по спасению» Лёшиной бригады, о которой я уже писал. Мы с Лерой Куксовской и геофизиками шли вдоль реки Ивинка по направлению к деревне Ладва. На плече у меня висело ружьё. Вдруг один из рабочих, Саня Мосин (фамилия вполне «ружейная), — человек с некоторым уголовным прошлым (и как выяснилось впоследствии, и будущим) подскочил ко мне, схватил ружьё и, быстро выстрелил по плывущей утке. Эффект был неожиданным: из ствола вылетел пыж и раздался негромкий хлопок. Саня, ведь, не знал, что, опасаясь попадания в стволы влаги, я затыкал их двумя связанными кручёной ниткой пыжами. Слава Б-гу, ижевская сталь оказалась прочной, и ствол не разорвало. Разорвало Санину глотку, — такого мата я давно (а Лера, возможно, никогда) не слышал. Утки, видимо, тоже не были с этим знакомы и поднявшись на крыло, неспешно улетели.
Четвёртая история связана не столько со мной, сколько с моим ружьём. Дело было так: к нам в Пудож с очередной инспекцией приехала комиссия во главе с главным инженером экспедиции Владимиром Александровичем Худокормовым. Володя остановился у меня и, увидав висевшее на стене в чехле ружьё, воспылал желанием поохотиться. Сколько мы с нашим завхозом Степаном Александровичем Коптюховым ни говорили, что ещё не сезон, что на реке бдит рыбнадзор, — В. А. ничего не хотел слышать. Слово гостя (да ещё и начальственного гостя), — закон. Коптюхов снарядил лодку, снасти, В. А. взял моё ружьё, и они отправились. Надо ли говорить, что финал этой «охоты» был вполне предсказуем: чужой, без документов, с чужим ружьём, вне сезона, — конечно, они сразу же были остановлены и, хотя ни дичи, ни даже следов пороха не было обнаружено, но ружьё было конфисковано…
Гость извинился и, составив акт о благополучном положении дел с техникой в партии, уехал восвояси. А я остался без ружья, зато с перспективой штрафа за передачу оружия третьему лицу, и прочими проблемами. Пудож — город маленький. И скоро об аресте ружья «у геологов» стало известно «широкой общественности».
Пришлось прибегнуть к уже имевшимся связям, выпить достаточно большое количество водки на очередной рыбалке с начальниками соответствующих служб, — чтобы ружьё опять вернулось в чехол и на стенку.
Пятая, и последняя история произошла уже в Ленинграде. В один, как мы думали, прекрасный вечер в дверь нашей квартиры позвонили. На пороге стоял лейтенант милиции, который представился в качестве участкового нашего района. Вошёл и сходу сообщил, что по его данным (?!) я являюсь владельцем охотничьего ружья. Хотя я числился членом Белорусского охотничьего общества и в Ленинграде нигде не состоял, но, оказывается, око государево бдит.
Я не стал упираться и признался, что, действительно, владею поименованным оружием. Милиционер попросил его показать. Приставив, лестницу, я полез на антресоли и достал чехол с разобранным ружьём. Но оказалось, что этого недостаточно, — согласно новому предписанию, ружьё должно было храниться в металлическом шкафу, закрытом на замок. Ни требуемого шкафа, ни замка в нашей квартире не было обнаружено, о чём и был составлен соответствующий акт. Этим актом мне было вменено явится в Райисполком в какую-то комнату. Там на меня наложили административное взыскание и штраф в размере, кажется, 10 рублей. Все мои ламентации о том, что новое постановление до моего сведения тем же участковым не было своевременно доведено, во внимание принято не было, ибо «незнание закона не отменяет ответственности за его нарушение». С тем и отправился в ближайшую сберегательную кассу, где и выложил свои пречистые 10 рублей.
А, вернувшись домой, твёрдо решил от греха подальше продать ружьё, что и сделал в ближайшем ружейном магазине. Тем более, что до отъезда оставалось не так уж много времени. А для самозащиты у меня ещё с полевых времён оставалась ракетница.
Перестройка, перестройка
Мы с Раей, как и многие наши друзья, с интересом и симпатией следили за теми преобразованиями, которые происходили в стране. Правда, пугал разгул антисемитизма, имевший место в Ленинграде. Боялись не за себя, а за детей и внуков.
Поэтому, когда старший сын, Леонид сказал, что они с Ренатой собираются за рубеж — особо возражать было нечего. Ведь это я сам, когда на стенах дома, в котором они жили, стали регулярно появляться антисемитские угрожающие надписи, я сам принёс ему ракетницу и запас ракет и сказал, чтобы в случае чего стрелял в потолок коридора, — нет ничего страшней рикошетирующей ракеты, идущей по стенам и потолку…
Но от погромов ракетницей не защитишься, и когда Лёня сказал, что они решили уехать в Германию, — мы не стали возражать. Это был выход, — не запирать же дверь на ночь ломом и не держать же наготове ракетницу.
Потом, примерно, через полгода уехал и младший сын Женя с женой Леной и маленькой Анечкой.
И тут началось: гостевую визу в Германию в консульстве выдавали только на три месяца. И когда Рая возвращалась из гостей (а она к тому времени уже была на пенсии), то все разговоры велись только о том, что «сказал Веня» (старший внук), что «сказал Саша» (младший внук), что «сказала Анечка» (на то время единственная внучка, жившая в Германии). И так по кругу. Когда бы я ни возвращался домой с работы, — я заставал Раю в одной и той же позе: она сидела в кресле-качалке и безразличным взглядом упиралась в экран телевизора (даже тогда, когда он не светился)…
И опять разговоры о Лёне и Ренате, о Жене и Лене, о Вене, Саше, Анечке, Сашеньке.
И я подумал: пусть я не самый лучший муж на свете; но ведь и не самый худший. И я не могу ради своих интересов и грядущих научных успехов жертвовать жизнью жены.

«На крыло»
Дорогие птицы, прокурлыкав,
Улетают в дальние края.
Трудно в мире жить без птичьих кликов.
Видно, «на крыло» и нам пора.
- Санкт — Петербург.
Последней каплей был следующий случай:

Как-то вечером возвращаюсь я с работы. Выхожу из метро на станции «Проспект науки». Уже достаточно темно. У выхода какой-то парень продаёт не то газеты, не то листовки. Слышу, как он объявляет: «Последняя речь академика Сахарова». Подхожу. Впереди меня какой-то невысокого роста гражданин. И вдруг слышу, как он, обращаясь, якобы, к парню, но так, чтобы слышали все вокруг, говорит: «Говно твой Сахаров!». Я не выдерживаю и хватаю его за плечо: «Почему это говно?» Он, не оборачиваясь и не глядя на меня, бросает: «А ты молчи, жидовская морда!». Я понимаю, что для него «жидовская морда» — просто ругательство — фигура речи. Но я хватаю его за рукав и кричу: «пошли в участок!». Он спокойно поворачивается ко мне и издевательски говорит: «Пошли, там тебе объяснят». И тут я не только узнаю в нём какого-то деятеля из Обкома профсоюзов работников геологоразведки (он как-то приходил к нам на собрание и даже сидел в президиуме), но и понимаю, — по сути, он прав, — в милиции сидят социально близкие ему, а не мне. И я не хочу жить в такой стране. Не хочу.
Не читается и не пишется (Ночное)
Не читается, и не пишется, –
На душе ни покоя, ни ясности…
И тревожное что-то слышится
В обстановке всеобщей гласности
1993.Санкт — Петербург

Наступил 1995 год. Пятнадцатого марта, в день своего рождения (а в этот день мне исполнялось 60 лет) я, как обычно, пришёл на работу к себе в Главное здание.
Мой юбилейный флешмоб
Конечно, я понимал, что будут поздравления, подарки…
Но того, что меня ждёт, я не ожидал.
Вхожу. Весь коллектив в сборе. У всех очень серьёзные лица. Вперёд выходит, кажется, Татьяна Лазаренкова (тогда она была самой младшей и самой отвязной в нашем коллективе) и от имени собравшихся произносит короткую приветственно-поздравительную речь. Затем она же вручает мне большую коробку, завязанную бантом. Долго раскрываю коробку, в ней находится следующая… И так до последней маленькой коробочки, в которой лежат чёрного цвета «домашние» трусы с нашитой на них металлической табличкой и монограммой.
Коллектив замер, ожидая моей реакции. Надо держать фасон. Церемонно благодарю коллег и прилюдно надеваю трусы поверх брюк. После этого при онемевшей публике выхожу в коридор и степенно прогуливаюсь по нему из конца в конец и обратно.
Если кто-нибудь думает, что это произвело фурор в массах, то он ошибается: встреченные или не заметили моего наряда, или не придали этому особого значения — наш народ ничем не удивишь. Только немцы, арендовавшие на нашем этаже пару комнат для своей лаборатории, стояли, разинув рты. Но это ведь немцы. Что с них возьмёшь.
Потом, через несколько дней в экспедиции, уже на 13-й линии Васильевского острова был банкет, на который из Германии прилетел наш старший сын Леонид. На банкет пришло около 60 человек, в том числе и почти все бывшие руководители нашей экспедиции, включая и Сергея Арасентьевича Голубева, который, между прочим, подарил мне по этому поводу прекрасный американский горный компас в футляре (я берегу его по сей день). От Всесоюзного института техники разведки был поднесен фирменный геологический молоток, а от имени руководства Геологического объединения — тоже миниатюрный геологический молоток со вставленным в рукоятку шариковым наконечником (ручку-молоток в единственном экземляре изготовил наш умелец Сергей Головизнин). Руководство экспедиции вручило мне специально присланный из Министерства геологии и охраны недр России нагрудный знак «Отличника разведки и охраны недр» и документ о награждении им.
Было сказано много хороших слов в мой адрес и подарено много других подарков.
А когда через несколько месяцев мы приехали с очередным визитом в Финляндию, в мою честь от имени финских коллег был дан замечательный ужин в ресторане одной из загородных гостиниц и были подарены часы с циферблатом, выполненным из диабаза в рамке из карельской берёзы. Впрочем, об этом я уже писал.
Подготовка к отъезду
Я не стану говорить о том, как мы добивались разрешения для переезда на «постоянное место жительства» (это называлось так, а в виде аббревиатуры — ПМЖ), как простаивали дни перед входом в немецкое консульство, как заполняли кучу бумаг и отвечали на кучу вопросов, — это многократно и с разной степенью объективности описывалось другими.
Неожиданно спокойно и относительно просто происходило расставание на работе. Начальство знало о моём решении, и даже, думаю, соглашалось с ним. Я боялся, что проблемы возникнут тогда, когда дело дойдёт до Первого отдела. Но и там всё прошло спокойно, — с меня сняли форму допуска к закрытым материалам и подписали обходной. Ещё лучше обошлись мои начальники, — мне даже дали бумаги, в которых сообщалось, что я могу представительствовать от лица администрации в переговорах о дальнейших контактах между экспедицией и заинтересованными немецкими организациями. Такую же бумагу я получил от руководства Геофизической экспедиции. Эти бумаги лежат у меня до сих пор. Я ни разу ими не воспользовался. Думаю, что причиной такого ко мне отношения были не мои личные качества и не мои отношения с руководством (хотя в те поры я уже был ВИП-персоной нашей организации), а, скорее, времена тех 90-х годов, когда всё менялось.
Все уже круг друзей…
Все уже круг друзей, все тяжелей бокал… , —
Мир в круг сужается, а круг стремится в точку…
И кажется, что близится финал…
И нету сил бороться в одиночку…
- Санкт — Петербург.
Итак, после положенного мне двухмесячного отпуска (за остальные неиспользованные отпуска я взял деньгами, которые тоже были ой как нужны), я написал заявление, и с 14.06. 1996 года был уволен из ЛКГЭ СЗПГО «по собственному желанию в связи с уходом на пенсию». За спиной осталось более 37 лет работы… И 61 год жизни.
Я наг и бос
«День Давида»
Я наг и бос, — ободран до кости,
Теряю все: друзей, страну, науку.
Что ждать еще мне, Господи? Прости
И помоги мне пережить разлуку.
Я нищ и духом пал, –
О, Господи, прости!
Где Зло и где Добро?
И мне куда брести?
Я духом слаб, безумен я, –
Не держат ноги и плывет земля.
Скажи, скажи, куда идти?
Прости мне, Господи, прости!
Я нищ и гол, — ободран до кости.
Теряю все: друзей, страну, науку.
Прости мне, Господи, помилуй и спаси,
И помоги мне пережить разлуку.
- Санкт — Петербург.
Но, кроме внешних обстоятельств, были ещё обстоятельства «внутренние»: надо было расстаться со всеми и всем, к кому и к чему привык, — с друзьями, со связями, с укладом, с привычками, с книгами. Вот с книг и начну.
Книги, книги…
Ещё со времён моего детства и студенчества книги были (и посейчас остаются) самой большой ценностью в нашей семье. Сначала с папой, а потом и сам я собирал нашу библиотеку. Папа пересылал мне из Минска получаемые им подписные издания. И даже прислал мне из Минска контейнер со стеллажами (в разобранном виде) для размещения книг. После переезда в Ленинград я продолжал и там подписываться на новые издания. Будучи постоянным посетителем магазинов «Дом книги», «Иностранная литература», «Военная книга», «Лавка писателей», «Академкнига», Театрального книжного магазина, книжных киосков ЛГУ и ЛГИ, различных букинистических магазинов, я собрал довольно большую библиотеку. Общее количество книг в ней превышало 20 тысяч. Кроме того, у меня была ещё геологическая библиотека, в которой насчитывалось около 8 тысяч книг. Квартира была набита книгами. И вот с ними надо было расстаться.
Проще всего оказалось с подписными изданиями. При помощи родных и знакомых мы переправили почти все подписные издания (за исключением академического собрания сочинений А. С. Пушкина, девятитомника А. И. Герцена и десятитомника М. Е. Салтыкова-Щедрина) нашим сыновьям. А они уже разделили подписки между собой.
С остальными книгами мы поступили так: небольшую часть (она заняла полтора из двух положеных нам контейнеров) приготовили для отправки в Германию. Остальные начали раздавать друзьям и знакомым. Обычно это происходило так: приезжал тот или иной знакомый или сотрудник, отбирал интересующие его книги; мы выпивали бутылку водки, закусывая приготовленными Раей бутербродами (она научилась «строгать» их быстро-быстро); потом книги укладывались в привезенную им тару (если у него не было таковой, то я давал ему один из многочисленных, накопленных за десятилетия полевой жизни, рюкзаков), после чего он отбывал по месту своего жительства. Назавтра повторялось то же самое с другим сотрудником или знакомым. Рая даже предположила, что к концу раздачи книг я сопьюсь. Этого, к счастью, не случилось. Примерно так же расстались мы и с телевизором, проигрывателем, пластинками и другими принадлежностями культуры. Оставшиеся не разобранными книги забрала какая-то библиотека (кажется, музыкального училища при Ленинградской консерватории) — нам её сосватали какие-то знакомые.
Свою геологическую библиотеку я практически целиком (за исключением небольшого количества книг, подаренных мне В. Е. Хаином, Э. А. Левковым и некоторыми другими коллегами) передал в свою Группу. Там поначалу для них была выделена отдельная комната, на которой одно время даже висела табличка «Библиотека имени Д. И. Гарбара». Но потом, как мне писали, при передаче помещений в аренду разным коммерческим организациям, книги куда-то подевали. Надеюсь, не в подвал, как это сделали с одной из старейших и уникальнейших геологических библиотек региона — Геологической библиотекой СЗПГО.
Чрезвычайное происшествие, или как «бабка ворожит»
При разборе книг со мной произошло чрезвычайное происшествие, чуть было не закончившееся трагедией. Разбирая и готовя к отправке свою геологическую библиотеку, я встал на один из наших стульев, чтобы достать книги с верхних полок.
Стул, у которого из спинки кверху торчали два острия — продолжения опоры спинки, — подо мной рассыпался. И я сверзился вниз, попав рёбрами на одну из торчащих опор, а глазом на вторую. Не могу передать той чудовищной боли, которую я испытал при падении. Некоторое время я не мог дышать, и Рая решила, что я потерял сознание. Потом немного притерпелся к боли в рёбрах, и тут мы заметили, что правый глаз ничего не видит. Не помню, каким образом я добрался до травмпункта. Там меня осмотрели, сделали рентген, и врач сказала, что мне «бабка ворожит», — у меня не оказалось ни одного поломанного ребра — только сильнейшее внутрирёберное кровоизлияние — гематома. То же и с глазом — ушиб, гематома, но зрачок цел. Повезло. С тех пор, я ни при каких условиях не пользуюсь стульями с торчащими деталями.
Сборы, прощания
Вот в таком состоянии мы продолжили дальнейшие сборы.
Кроме книг, с собой решили взять самый минимум вещей (да и места в контейнерах почти не оставалось). Среди этого минимума оказался ковёр, который нам подарили ещё на свадьбу, и швейная машина Раи, пара сервизов, подаренных нам за нашу жизнь, и кое-что из посуды. Одежды и было мало, да и взяли мы самый минимум.
Впрочем, два положенных нам контейнера оказались заполненными доверху.
Потом была целая процедура с таможней, с отправкой контейнеров…
Эта достаточно малоприятная процедура скрашивалась несколькими забавными эпизодами.
Для отправки музыкальных кассет и диссертационных материалов (а мне хотелось их иметь с собой) надо было пройти таможенную проверку где-то на Васильевском острове. Оставляя в стороне многочасовое ожидание, сама встреча с таможенником прошла легко и просто. Узнав о том, что я доктор наук (среди материалов было несколько экземпляров автореферата докторской диссертации), он проникся каким-то уважением и без особых проволочек пропустил все материалы, опечатав пакет своей печатью. В аэропорту этого оказалось достаточно.
Иначе было с отправкой контейнеров с книгами. Их содержимое проверяли поштучно и долго. Но не пропустили только Англо-русский словарь под редакцией О. Ю. Шмидта. Почему? Я не спрашивал. Зато упаковка и отправка двух контейнеров стоила почти всех наших накоплений…
Когда через год сыновья получали и разгружали эти контейнеры, хаузмастер дома, в который мы заселялись, спросил: и это всё книги? На что старший сын Леонид ответил: Да книги, и половину из них написал отец (!). Немца это не удивило — чего не случается с этими русскими…
Параллельно проходили прощальные встречи с остававшимися немногочисленными друзьями и коллегами (и Раиными, и моими).
Лучше всего, как мне кажется, это время и это состояние отражено в стихах:
На душе тоска и тревога
На душе тоска и тревога,
В голове разброд и бедлам,
Впереди неясная дорога,
Позади ненужный хлам.
Сердце к сердцу уже не прижмется.
Что не спето, — не спето вовек.
Что надорвано, — разорвется.
Обреченно живет человек.
- Санкт — Петербург
Надпись на стекле
«День Давида»
Надпись на стекле гласит: «Не прислоняться!»
Стой, держись, нагрузки не страшись.
Вес держи, не вздумай уклоняться,
Все стерпи, что дарит Жизнь.
Надпись на стекле гласит: «Не прислоняться!»
Но земля уходит из-под ног.
Надо устоять, не потеряться, –
Кто там знает, что пошлет нам Бог?
- Санкт — Петербург
Из разного:
«Не суй свой нос…»
В этой главке я хочу рассказать о нескольких своих контактах с, так называемыми, «деклассированными» элементами и некоторых, с позволения сказать, приключениях, о которых вспомнилось уже после написания основного корпуса воспоминаний.
Контакты эти и приключения произошли в разное время, и, начинаясь с комедии (или в лучшем случае, фарса), вполне могли перерасти, как это часто бывает, в полноценную трагедию, — по крайней мере, для меня.
Первый случай произошёл в Ленинграде в начале нашей семейной жизни. Я уже поступил в заочную аспирантуру. По семейному распорядку я должен был после работы мчаться на Малую Охту, чтобы успеть забрать из детского садика Лёню, ибо Рая при всём желании туда после работы не успевала. Надо сказать, что дорога из центра города на Малую Охту была неблизкой. Трамвай с пересадками шёл туда что-то около часа, и я, если удавалось сесть, с удовольствием погружался в приятную дремоту. Самое главное — не проспать нужной остановки, чтобы перейти с трамвая на трамвай. На этот раз я всё-таки проспал и спохватился, когда, проехав через Большой Охтенский мост, трамвай завернул не направо — на Малую Охту, а налево — на Большую. Спохватившись, я выскочил на первой же остановке и стал ждать трамвая, идущего в нужном мне направлении.
Было это в конце ноября или в начале декабря. Темнело. Перед этим прошёл снег, и снегоуборочные машины успели, расчистив проезжую часть, нагромоздить его у тротуаров, образовав вдоль них невысокие снежные брустверы. В ожидании трамвая, народ толпился за этими брустверами. Я присоединился к толпе ожидающих.
Вдруг толпа несколько оживилась: оказывается откуда-то в неё вписался несколько подвыпивший мужичок, вступивший в активное «общение» с окружающими. Вначале это был обычный трёп. Но постепенно, то ли под воздействием выпитого, то ли от огорчения, что никто не откликается, он перешёл к более активным действиям: стал приставать к пожилым людям, выражаться матом…
Я уже писал, что, воспитанный в среде буровиков и горнорабочих, с большим уважением отношусь к ненормативной лексике, но здесь ничего подобного не было — просто сквернословие — банальный мат. Этого я не люблю. Особенно, когда это относится к пожилым людям и женщинам, — а именно они-то и составляли основную массу ожидавших.
Вот и на этот раз, — то ли моё пионер-комсомольское прошлое, то ли просто чёрт дернул, — но я обратился к пьяненькому буяну с предложением угомониться и отстать от людей.
А ему только этого и надо было: весь свой задор он тут же обратил на меня. Сначала объектом его внимания был мой портфель, потом бородка, потом… Потом, не слыша от меня ответов, он вдруг потянулся к моему горлу, норовя ухватить меня за шарф. Это было уже лишним: я очень не люблю, когда, нарушают «моё личное пространство».
Отработанным на уроках самбо движением я приподнял тянущуюся ко мне руку и толкнул этого типа под подбородок. Именно толкнул, а не ударил. От неожиданности он сделал шаг назад, споткнулся о снежный бруствер и спиной грохнулся на мостовую.
Надо же было так случиться, что в это время мимо промчался какой-то большегрузный автомобиль. Он переехал шапку упавшего, и чуть было не наехал на него самого.
Мой оппонент мгновенно протрезвел, вскочил на ноги и, подобрав свалившуюся шапку, с криком: «Он хотел меня убить!» бросился ко мне.
Странным образом в толпе тут же нашлись «свидетели». Меня окружили, схватили за руки. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы в толпе не оказался некто в штатском, но со свистком и удостоверением…
Он тут же вытащил свисток и засвистел, вызывая милицию. Через некоторое время появился милиционер. Человек в штатском как-то незаметно испарился, а местная публика стала с жаром объяснять милиционеру всю мою вину. Поскольку объяснения были не очень членораздельны, милиционер решил отвести нас в ближайшее отделение милиции — «для выяснения». Он взял меня под руку. С другой стороны мою руку держал «пострадавший». Спереди, сзади и с боков шли сочувствующие «пострадавшему». Впрочем, по мере продвижения к отделению толпа стала заметно редеть. Вдруг я почувствовал, что и пострадавший, отпустил мою руку и тоже намеревается исчезнуть. Тогда уже я ухватил его за руку. Так втроём с милиционером и «пострадавшим» мы и вошли в помещение райотдела милиции. Наш милиционер, который на месте происшествия не присутствовал и сам ничего не видел, доложил, что привёл двоих скандалистов. Дежурный, предложил нам предъявить документы. Я достал свой аспирантский (!) билет. Видимо это, а также моё трезвое состояние, членораздельная речь и пресловутый портфель произвели на дежурного благоприятное впечатление. Мой оппонент же, наоборот, не смог ничего сказать, ибо язык его опять стал заплетаться, — в совокупности это сыграло против него, и по указанию дежурного он был препровождён в «обезьянник». Мне было сказано, что я свободен, и вместе с доставившим нас в участок милиционером мы вышли наружу. Последнее, что я услыхал, был недоуменный вопрос «потерпевшего», обращённый ко мне: «А ты куда?». Я ответил: «Домой» и закрыл дверь. Потом спросил у милиционера: а куда подевалась вся сопровождавшая нас публика? Он со смехом ответил, что это всё, как и «потерпевший», завсегдатаи ближайшего шалмана и по отношению к милицейскому участку у них просто идиосинкразия. На этом мы с ним и расстались.
Я вернулся на остановку, дождался нужного мне трамвая и с большим опозданием приехал за Лёней, где от воспитательницы выслушал очередную лекцию о нерадивых родителях, забытых детях, и бедных воспитателях, вынужденных сидеть сверхурочно и бесплатно.
Самое смешное было назавтра, когда я пришёл на работу и рассказал коллегам о случившемся. Каждый из моих слушателей отреагировал по-своему. А когда я спросил, поверили ли бы они, если бы им сказали, что Гарбар в драке убил человека, — честный и чистый до невозможности Марк Герштейн ответил, что он бы уточнил: не был ли Давид пьян? Это, конечно, усугубило бы возможные подозрения.Впрочем, и без того я был на волоске от статьи «о превышении необходимой самообороны»…
Второй из запомнившихся случаев произошёл в селе Девятины Вытегорского района.
Здесь базировалась одна из партий нашей экспедиции и находилось большое кернохранилище. Не помню уже, по какой надобности мы с главным геологом экспедиции Николаем Васильевичем Тюшовым и моей коллегой, местным геологом Тамарой Александровой приехали поработать с керном. Пока просматривали керн, описывали его и опробовали, всё было нормально, — как обычно. Но наступило время обеда, и Тамара посоветовала пойти в местную рабочую столовую. Спустились к шлюзу, где была расположена столовая, вошли, что-то выбрали и уселись за одним из столиков. Вдруг раздался какой-то шум, скрип тормозов, крики, команды. Тамара, знакомая с местными порядками, объяснила, что это в столовую привезли заключённых, работавших на ремонте этого участка Беломоро-Балтийского канала.
Прошло ещё несколько минут, и в столовую ввалилась толпа заключённых. Шум, гам… Наконец угомонились. И вдруг к нашему столу подошёл какой-то зек (заключённый) и обратился к Тюшову: «Дед, дай закурить». Тюшов ответил, что не курит. Но я видел, как он напрягся. Зек не отставал. Он стал что-то требовать, угрожать… Ситуация становилась напряжённой. Тут я не выдержал и посоветовал этому типу отстать и убираться восвояси. Это, видимо, ему понравилось. Он отошёл. Уселся за соседний столик, вынул заточку и, поигрывая ею под столом, — так чтобы не видели конвоиры, но видели мы, сообщил, что вот со мной-то он и поговорит по выходе из столовой. Не могу сказать, чтобы это прибавило мне аппетита. Когда мы отобедали, мои коллеги, видимо, решив, что это защитит, взяли меня под руки (на самом деле, они только лишили меня маневренности). Так под руки мы и вышли. Наш «клиент» пристроился сзади. Я уже «ощущал», как заточка входит мне между лопаток. Но тут случилось непредвиденное: к столовой прибыла очередная группа заключённых и кавалькада автомашин разделила нас с «клиентом. Высыпавшая из машин толпа и вообще поглотила его. А мы, мысленно благодаря Б-га и случай, благополучно вышли из этой круговерти. Спина у меня была мокрой. Лицо Н. В. Тюшова было белее мела. На Тамару я не успел взглянуть. Думаю, что и у неё отлегло от души.
Третий случай был опять в Ленинграде. Я возвращался с работы. Это было ещё до прорыва плывуна на Площади мужества, и можно было прямо от Московского вокзала добраться до нашей станции Академическая. Вошёл в вагон. Народу полно. Сесть негде. Пристроился у стены, рядом с сидячими местами. Рядом со мной стоит какой-то затруханный мужичок, и всё время канючит, обращаясь к сидящему на скамейке, видимо, старшему товарищу. Беседуют (ботают), в основном, по фене. По стилю разговора начинаю понимать, что они недавно «откинулись с зоны». Станция за станцией, а канюченье не прекращается.
И тут меня дёрнуло, — вмешался — попросил сидящего дать уже канючащему то, что он просит. Тот и бровью не повёл в ответ.
Вот и Академическая. Выхожу. Иду к эскалатору и вижу, что сзади меня стоит тот самый сидевший на скамье «авторитет». Видимо, он специально пристроился за мной. Где-то на середине эскалатора он тихонько толкнул меня в спину, а когда я обернулся, показал мне из рукава финку и тихо посоветовал: «не суй свой нос…». По сути, он был прав…
Скандал вокруг «Айны»
Я уже писал, что благодаря посредничеству начальника Карельской экспедиции Михаила Александровича Десяткова, в большинство своих приездов в Петрозаводск я заселялся в «главную» гостиницу города под названием «Карелия». Бывал я там часто и подолгу, и стал своего рода постоянным уважаемым заселенцем — настолько, что когда это было возможно (вне совещаний, конференций и других местных событийных мероприятий), мне даже предоставляли пустующий «обкомовский» номер (правда, с условием покинуть его по первому требованию). Степень моей «известности в узких кругах» гостиничного персонала характеризует такой эпизод: как-то мы с коллегой Георгием (Жорой) Громыко были приглашены на какое-то совещание. С нами соблаговолил поехать и главный геолог нашей экспедиции — в те поры — Юрий Гречко (он открыто недолюбливал меня, ибо я при необходимости, игнорируя его, обращался прямо к главному геологу Управления, что, конечно, было нарушением субординации). Так вот, решив поехать на это совещание, Юрий Иванович «поручил» мне забронировать нам места. Выполняя это его поручение, я и отправил в гостиницу «Карелия» телеграмму такого содержания: «Прошу бронировать места Громыко, Гречко, Гарбар». Надо сказать, что в те поры носители фамилий моих спутников были весьма известными и значимыми людьми в СССР — министр иностранных дел и министр обороны… Каково же было удивление и возмущение моих спутников, когда по приезде в Петрозаводск администратор гостиницы встретила меня таким словами: «Я не ожидала от Вас, товарищ Гарбар, такого легкомыслия! Вам место мы забронировали, а вот это — и она указала на телеграмму — уже не шутка… Мне стоило некоторого труда объяснить ей, что это, действительно, не глупая шутка, а вполне нормальные люди, только с такими знаковыми фамилиями. Обошлось. Но это лишь присказка. А вот и сказка:
Как-то поселившись в очередной раз в «Карелии», я увидел, что в местном киоске, в котором продавались сувениры и изделия местного промысла, выставлена доска с гравюрой героини карельского эпоса красавицей Айной. Это была работа какой-то местной художественной артели по рисунку набиравшей в те поры известность, а ныне знаменитой карельской художницы Тамары Григорьевны Юфа (тогда она ещё, кажется, работала учителем рисования в деревне Ладва). Спросил, как можно купить эту гравюру? Дежурная по этажу ответила, что киоск закрыт и что открывается он только по приезде главных покупателей — иностранцев. Это показалось мне несправедливым: что это, — я в своей стране — «человек второго сорта»?! Мне повторили, что киоск закрыт. Назревал скандал. Я потребовал старшую дежурную и пригрозил, что в случае, если киоск через час-другой не откроют, то я обращусь «куда следует». Куда следует я и сам не знал. Но этого не знали и мои собеседницы. А человек, живущий в «обкомовском номере», мог быть ого-го кто… Поэтому через небольшое время прибежала хозяйка киоска, продала мне эту «Айну» (стоила она и в рублях недорого) и тем исчерпала назревавший скандал. Надо ли говорить, что в глазах дежурной по этажу и старшей дежурной (слава Б-гу, что выше этого не пошло) я вырос почти до небес. А «Айна» и сейчас висит у меня на стене.
«А если повезёт», или Как бывает под ножом (хирургическим)
Кто-то из моих знакомых однажды сказал, что каждый живущий в нашем цивилизованном мире человек раньше или позже окажется под ножом у хирурга.
Мне, видимо, особенно повезло, и я оказывался под этим самым ножом не единожды.
Первый раз это случилось в Минске, куда я специально приехал из Ленинграда в связи с предстоявшей мне операцией по вправлению грыжи.
Собственно, саму грыжу я заработал на дороге Пудож — Порженское, когда мы с Виктором Соломоновичем Кофманом поехали проверять состояние керна скважин, которые должны были вскрыть бокситоносные породы карбона. Должны были, но почему-то (!) не вскрывали…
По этому поводу в Пудож приехал куратор по бокситам (им был В. С. Кофман), и мы отправились на место бурения. О характере и состоянии дорог на границах северных областей, какими были Вологодская, Архангельская и Карелия (на юге я не работал и тамошних условий не знаю) — так вот об этом я уже писал. Как только мы сошли с основной трассы, так наш козлик провалился в яму. Пришлось его оттуда вытаскивать. Потом это стало нашим главным занятием. Основным инструментом при этом служила так называемая вага — ствол дерева, лишённый ветвей, которым мы пытались приподнять машину, чтобы подложить под колёса всё что можно. Поскольку я был моложе и, как предполагалось, здоровее, вага приходилась на мою долю, а Виктор Соломонович подкладывал эти самые ветки… Шофёр же, конечно, был за рулём.
И так раз за разом. При одной из таких операций я почувствовал, что внизу живота у меня что-то треснуло. Посидел немного на обочине и продолжил машиноподъёмную операцию, — выбираться всё равно как-то надо было. Когда мы возвратились в Пудож, я продолжал чувствовать некоторую боль. Первоначально не обращал на это внимания. Но вот однажды, уже возвратившись в Ленинград, прямо на Научно-техническом совете, который вёл, как сейчас помню, начальник экспедиции И. С. Афанасьев, от внезапного болевого шока я чуть было не потерял сознание. Врач, к которому меня доставили, определил, что у меня грыжа, и что вполне возможно ущемление. Требуется срочное хирургическое вмешательство.
Мама и папа, которых мы по-телефону поставили в известность, посоветовали приехать в Минск, где были знакомые врачи. Их доводы нас убедили, и я поехал в Минск.
Действительно, жена моего покойного дяди Лёвы, Рива устроила меня в больницу, в которой она заведовала детским отделением. Лежу. Жду. Перед операцией заходит нарколог — знакомимся — Рива сообщает, что это заведующий наркологическим отделением. Хорошо.
Потом приходит хирург, — оказывается это заведующий хирургическим отделением. Если принять во внимание, что во время операции Рива держала меня за руку, то, думаю, такой команды не было ни у одного из оперированных в этой больнице пациентов.
Потом они говорили, что вёл я себя нормально и до самой отключки пытался шутить и рассказывать анекдоты. Этого я, признаюсь, не помню. Первый, кого я увидел, придя в себя, был брат, потом папа, потом мама… Хорошо болеть среди родственников.
При выписке хирург сказал, что у меня очень слабая плевра, и грыжа раньше или позже, всё равно, прорвёт. Он был прав. Но теперь я знаю, как бороться с очередными приступами… Первое время ходил в бандаже. Но потом жизнь заставила и таскать, и носить, и вываживать…
Второй случай был уже в новой жизни, и оказался гораздо опаснее. Дело было так: мы с Раей после длительного перерыва решили совершить недельную экскурсию в Швейцарию. Перспектива попасть на Монблан кого угодно вытащит. Поехали.
Уже в самом начале экскурсии я почувствовал боли справа внизу живота. Вначале подумал, что это потенциальная грыжа. Но боли не проходили, а наоборот, усиливались. Таблетки, которые были и у нас, и которыми меня щедро снабжали спутники, не помогали.
Проехали Берн с его медведями, потом Люцерн, потом что-то ещё. Постепенно боль становилась совсем нестерпимой. С трудом вспоминаю, что одним из объектов, который мы посетили, была гостиница Grand Montreux на берегу Женевского озера, в которой жил Набоков, и его могила на кладбище неподалеку. Но мне уже было не до всего этого.
Главная мысль была оказаться на территории не Швейцарии, а Франции, ибо, как говорили спутники, наши медицинские страховки в Швейцарии не действовали. Удержался. Но на въезде в городок Соланж у меня в животе что-то треснуло, и я практически потерял сознание. Руководитель нашей туристической группы велел водителю ехать к ближайшему медицинскому пункту. Из автобуса я уже выйти не смог — выпал. Было темно. Меня под руки втащили в этот медицинский пункт. Оттуда на амбулансе привезли в какой-то госпиталь и сразу положили на операционный стол. Сколько я там пролежал, не знаю. Очнувшись, увидел медбрата, который пытался меня раздеть. Потом в комнату вошла очень маленькая женщина и представилась — хирург. Я ещё подумал, как она достанет до стола, на котором я лежу. Больше ничего не помню. Очнулся в палате. Кругом сёстры. Пришла Рая.
Оказывается, руководитель нашей группы отвёз её в отель, дал денег, а сам уехал устраивать группу. Наутро пришла женщина-хирург. Она оказалась, действительно, очень миниатюрной.
Из разговоров, которые я понимал очень плохо, ибо говорили на французском, а я его не знаю, понял, что у меня перитонит — лопнул аппендикс. В этой больнице я пролежал около недели. Пока меня приводили в чувство и готовили к транспортировке, местная администрация занималась нашей страховкой, вынимая из Раи всю душу вопросами на непонятном ей языке.
Я же лежал у окна и силился увидеть столь близкие и такие недоступные теперь Альпы.
Но в окно была видна только одна скала, нависавшая над госпиталем.
Лицо на скале
Это было в одной благодатной стране.
Я лежал на спине, отходя от наркоза.
И лицо. Но скале. Вдруг привиделось мне.
Рассмотреть нелегко — неудобная поза.
Я вижу Лик на плоскости скалы.
Над ним базальта козырек навис.
А выше — памятником — пик горы,
С которой облака сползают вниз.
Старик, чей вид суров и отрешен,
Чей лик спокоен, благороден,
Взгляд ни к кому уже не обращен, –
Он весь в себе. И полностью свободен.
Давно остались позади дела, –
Те, что творил он на земле.
Все в прошлом, все зола, зола…
И нет огня — огонь в золе…
Старик! Что там? Какой там Рай?
А Ад? Скажи, скажи. Не смеешь?
Старик в ответ, — Держись, не умирай…
Сюда не торопись… Еще успеешь…
Опять спустились облака.
Скала исчезла. И исчез старик.
И только шепот — тот, издалека
Во мне звучал. Переходя на крик…
Соланж, 18.09.2002 г. – Дуйсбург. 23.11.2002 г.
Через неделю из Дуйсбурга приехал амбуланс и нас с Раей через половину Европы доставили прямо в госпиталь в Дуйсбург. При приёме в Дуйсбурге, прямо в приёмном покое госпиталя выяснилось, что один из операционных швов загноился. И пришлось делать повторную операцию, после которой я провалялся в больнице больше месяца. На память обо всей этой эпопее у меня остались в животе спайки, которые время от времени дают о себе знать.
Рае эта эпопея стоила подскочившего (до 210) давления, что тоже не прошло для неё даром.
Ну, и наконец, третья операция. Это было после наезда на меня в Гостевой сайта «Заметки по еврейской истории». Не привыкший к окололитературным сварам, я с помощью моих друзей около полугода пытался отбиваться от окопавшейся там своры. Но потом в прединфарктном состоянии оказался в кардиологическом отделении одной из местных больниц. На моё счастье, в этой больнице, правда, в другом отделении оказалась русскоязычный врач. Она довольно подробно объяснила мне ситуацию и сказала, что врачи рекомендуют поставить в вену шунт. Эта процедура проходила уже под местным наркозом, и я с интересом наблюдал за всеми манипуляциями медицинского персонала.
Но я опять, кажется, забежал вперёд.
И ещё несколько историй, но уже без связи с деклассированными элементами и медициной.
«В лунном сиянии снег серебрится…»
Моя профессия предоставляла большие возможности пребывания на природе.
Но почему-то так получалось, что на «любование» этой самой природой как-то не доставало ни времени, ни сил. А может быть, просто, как сейчас говорят, я был «заточен» совсем на другое.
Пишу об этом потому, что знаю, как в некоторых коллективах стиль жизни был совсем иным. Возможно, и на природу у них хватало времени…
У меня же подобные обстоятельства связаны больше с проблемами бытового характера.
Помню, однажды зимой мы с уже упоминавшимся Павлом Ивановичем Касимовым поехали выбирать трассу для транспортировки его бурового агрегата на новую точку.
Вот как трансформировался этот эпизод в моих воспоминаниях:
Зимняя дорога
«В лунном сиянии снег серебрится…»
(Е. Юрьев)
Я помню эту ночь и этот лес…
Мы заблудились в поисках дороги.
Над нами месяц. Серп его двурогий
Нам освещает зимний мир чудес.
Дорога чуть видна. Возможно, что никто
По ней ещё не ездил в эту зиму.
Мороз и снег, и лес. Я сросся с ними.
Мне полушубок заменил пальто.
Мотор забарахлил, не одолев подъём.
Да, неудачное наш «козлик» выбрал место.
Жилья в округе нет, и неизвестно…
Снег застилает окоём…
Не знаю сколько, — ночь и лес вокруг, –
Брели мы по «серебряному» снегу,
Уж не надеясь выбраться к ночлегу,
Как скрип саней мы услыхали вдруг.
Да, сани с сеном. Чудо из чудес!
Тот мужичок, наверное, нас спас.
Спасибо, Господи, что не оставил нас.
И снова снегом заискрился лес…
P.S.
Теперь, когда я слышу иногда
Про тройку, снег и лунное сиянье,
Ко мне приходит то воспоминанье.
И мне от этого не деться никуда.
Дуйсбург. 2.06 — 20.10.2013 г.
Падение кумиров
Я рос настоящим советским мальчиком. В доме мы не вели и не слышали никаких антисоветских разговоров. Возможно, родители, видевшие всё, что творилось, где-то и обсуждали между собой происходившее и происходящее, но при нас такие разговоры не велись. Политические темы в доме, во всяком случае, при нас вообще не обсуждались. Жизнь и так было трудной.
Сталин для нас был тем, кем он был для большинства советских людей, — вождём, учителем, организатором наших побед, отцом народов. Альтернативы ему для нас не было. Тем более неожиданным и страшным было сообщение о его смерти.
5 марта 1953 года, когда мы пришли в школу и узнали об этом, все ходили, как в воду опущенные. Помню, что когда в класс вошёл мой друг Феликс, у которого на этот день приходился день рождения, то его радостное лицо вызвало вспышку гнева у соучеников. Его даже, кажется побили (?). Учителя ходили какие-то растерянные, уроки не проводились.
Потом нам сказали, что на площади, перед Дворцом профсоюзов, где недавно с помпой установили огромный монумент вождя народов, начинается митинг. Пошли туда. Масса народа, давка, звучит траурная музыка, у многих на глазах слёзы.
Несколько дней все пребывали в состоянии потерянности: что будет дальше? Кто его заменит?
Потом с жадностью ловили новости из Москвы. Потом как-то утряслось.
Новая вспышка интереса возникла, когда я узнал, что однажды, буквально за одну ночь этот монумент, ставший памятником, был не только снесён, но даже его многометровое основание было выкорчевано, а яма, в котором это основание находилось, отгорожена от глаз любопытствующих щитами. Но это было уже значительно, во времена Хрущёва.
Конечно, особое впечатление произвёл доклад Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС. Вначале его читали на закрытых собраниях, и мы — не члены узнавали об этом в пересказах знакомых «членов». Потом стали читать на общих собраниях и даже загоняли туда слушателей. Постепенно мы узнавали всё больше подробностей о том, что «наш отец оказался сукою».
Совсем иначе происходило свержение Хрущёва. Недовольство им, особенно его инициативами с кукурузой, его эскападами на международных мероприятиях, его выходками при «встречах» с писателями, с художниками — всё это давало пищу для разговоров. Да и время было иное — более свободное, более говорливое…
О том, что его сняли, я узнал в поле. Помню — возвращаюсь из маршрута и где-то в районе деревни Юксовичи подсаживаюсь в автобус, чтобы ехать в Вознесенье. На следующей остановке в автобус входит мужичок из местных (конечно, в подпитии) и на весь автобус, обращаясь почему-то ко мне (видимо, мой не местный облик и странная трезвость выделили меня из массы пассажиров?), произносит: Ну, что! Скинули твоего Никиту! Почему моего? Как это скинули? Но не спрашивать же этого поддавоху. Доехал до Вознесенья. Тут коллеги и подтвердили, — действительно, скинули.
Впрочем, нам было не до этих игр там наверху. В поле и без политики дел невпроворот.
«Бумага с красной полосой»
Дело было так: как-то вечером Рая сказала, что у одного из наших соседей по лестничной клетке, недавнего выпускника Политехнического института и руководителя комсомольского строительного отряда, в квартире появился телефон, о чём с гордостью сообщила соседям жившая с ним мама.
Из этого разговора мы с Раей сделали вывод о том, что наш дом, наконец, «телефонизирован», и есть надежда тоже получить личный домашний телефон.
С этим я и обратился в районное отделение телефонной связи. В качестве поддерживающих документов принёс с собой отношение от руководства экспедиции и вырезку из какой-то газеты о том, какой вклад в развитие минерально-сырьевой базы региона, и, в частности, Ленинграда и Ленинградской области вносит «геолог шести областей» Д. И. Гарбар.
После многочасового ожидания я, наконец, вошёл в заветный кабинет начальника отделения.
Внимательно прочитав и отношение, и заметку, тот сказал, что лимит телефонов исчерпан, но если я принесу ему такую бумагу (и он вынул из ящика стола какой-то лист), то он в виде исключения постарается изыскать телефонную точку и для нас.
Я посмотрел на предложенный мне образец. Там на бланке с красной полосой поверху было написано, что Ленинградский областной комитет КПСС ходатайствует об установлении в квартире нашего соседа телефонной точки вне очереди. Такой бумаги у меня не было.
И милый начальник предложил мне подать заявление о постановке на очередь…
До отъезда такая очередь еще не приходила. Но я уже и не жду.
«Предательство, предательство…»
Я приступаю к написанию этой главы с особым чувством. Предательство, на мой взгляд — самое отвратительное, что может быть в человеческих отношениях. Я стараюсь в своих воспоминаниях избегать негатива, хотя он тоже, конечно, бывал в моей жизни.
Но этот случай я ни забыть, ни простить не могу.
Из этических соображений я не стану называть имени этого человека.
Моё знакомство с ним произошло после получения мной Бураковской аномалии. Подбирая коллектив для её изучения, я получил рекомендацию пригласить этого человека. Рекомендатор сказал, что этот специалист хорошо знаком с объектом, ибо занимался им ещё до меня в рамках геофизического изучения территории. Познакомились. На меня он произвёл весьма положительное впечатление, и я начал хождения по начальству с предложением принять его на работу в нашу экспедицию. Надо сказать, что до того он не работал в системе СЗПГО, но его кое-кто знал и не очень к нему благоволил (это случается среди однокашников). Но я настоял, и его приняли в нашу экспедицию. Специально для него была изобретена должность, и он с семьёй приехал в Пудож. После нескольких недель поисков удалось найти им квартиру, ибо с двумя детьми в общежитии жить было невозможно. А когда в одном из наших домов освободилась квартира, они переехали туда.
На первых порах всё шло нормально: он, действительно знал объект, понимал поставленные задачи по его изучению и в полной мере участвовал в их решении. Я постепенно всё больше доверял ему и, отбывая иногда в Ленинград, даже оставлял его за себя, хотя в партии был и главный инженер (второе лицо по штатному расписанию), и главный механик, и заместитель по снабжению и общим вопросам. Но мне было как-то спокойнее, когда «у руля» оставался он.
Вот и на этот раз, собираясь в Ленинград с очередным месячным отчётом, я приказом по партии оставил его вместо себя. Приватным образом я вручил ему ключи от отдельного автомобильного бокса, в котором обычно стоял начальнический «козёл», а в этот раз стоял УАЗ-452 геофизиков.
Дело в том, что практически накануне этот новенький УАЗик с полным комплектом геофизического оборудования попал в аварию в деревне Колово и по распоряжению руководства экспедиции должен был быть изолирован до приезда из экспедиции комиссии, которая должна расследовать причину и обстоятельства аварии.
Моё внутреннее расследование привело к тому, что, как выяснилось, виновной в аварии оказалась супруга этого человека, которая уговорила водителя поехать с ней в это самое Колово за покупками. Там они не только закупились, но и «подогрелись», — и в результате попали в эту злополучную аварию. Водителя я отстранил и отправил в Ленинград. А участие дамы решил скрыть, дабы не компрометировать своего коллегу. Машину мы поставили в бокс, с приказом до приезда комиссии не вскрывать его.
Уехал в полной уверенности, что всё так и будет. Каково же было мое удивление, когда по возвращении я узнал, что бокс не только открывался, но что с аварийной автомашины сняты и куда-то исчезли колёса.
Мой заместитель объяснил, что остродефицитные колёса снял механик партии и обменял у кого-то на столь же дефицитные детали к нашему «козлу». На мой вопрос, кто дал такое распоряжение, членораздельного ответа я не получил. В это время в Пудож приехала ожидаемая комиссия. которая и занялась расследованием и аварии, и разукомплектования УАЗа.
За кучей дел, которые наваливаются на всякого начальника стационарной геологической партии (от бурения и снабжения и до быта сотрудников и их семей), я оставил этот вопрос на совесть комиссии. Комиссия уехала. А через несколько дней я получил вызов в Ленинград, в экспедицию. Приехал. В отделе главного механика мне сообщили, что на меня заведено дело «Об разукомплектовании специализированного геофизического автомобиля УАЗ-452».
За разъяснениями предложили обратиться к начальнику экспедиции И. С. Афанасьеву. Обратился. Афанасьев в ответ на мои возмущения и ламентации вытащил из ящика стола бумагу и подал её мне. Читаю: там чёрным по белому написано, что уезжая в Ленинград, я распорядился снять эти самые колёса и использовать их для обмена на необходимые детали. А в конце этой «Объяснительной записки» стоит подпись моего «доверенного» заместителя. Я не мог поверить своим глазам! И это после всего того, что я для него сделал (включая историю с участием его жены в этой аварии). Но чего не сделаешь со страху, — подлость, по-моему, чаще всего основывается на страхе.
Я не стал рассказывать Афанасьеву всю историю, — нельзя на подлость отвечать подлостью.
Но я ему дал честное слово в том, что никакого такого указания я не давал. Иван Стефанович Афанасьев знал меня к тому времени уже более двадцати лет, и знал, что я честным словом не бросаюсь. И он не только поверил мне, но и сделал широкий жест, — передал мне эту «Объяснительную записку» и посоветовал впредь получше выбирать друзей.
Надо ли говорить, что без этой «записки» никакого «дела» не могло быть. Как они там объяснили историю с аварией и последующим разукомплектованием автомашины, не знаю.
По возвращении в Пудож я пригласил к себе этого человека, показал ему его «Объяснительную» — донос и посоветовал покинуть нашу партию и вообще Пудож, что он довольно быстро и сделал.
Естественно, в экспедиции для него места уже не было. Но он достаточно быстро перешёл в аппарат СЗПГО, где и существовал до выхода на пенсию. Судьба в личном плане разобралась с ним жестоко, но это уже без меня…
Больше мы с ним не общались, хотя иногда встречались в коридорах власти.
Давайте его кастрируем
И ещё одна история, На этот полукомическая.
Это было уже во второй половине моей «первой жизни».
Однажды по внутреннему телефону звонит секретарь начальника экспедиции и приглашает меня к нему на определённое время.
Надо сказать, что наш тогдашний начальник, Вячеслав Семёнович Параконный (дальше В.С.П.) окончил военное училище, некоторое время проработал на Севере, а у нас работал не очень давно. Его распоряжения носили оттенок полученного им воспитания и не всегда отвечали нашим понятиям о здравом смысле. Он и сам сознавал это и иногда старался подстраховаться. Вот и на этот раз прежде, чем принять решение, он решил посоветоваться с «уважаемыми» людьми. Видимо, я входил в этот круг. Иду. По дороге встречаю В. С. Кофмана, который идёт от начальства и, встретив меня, загадочно улыбается.
Вхожу. В.С.П. предлагает сесть и объясняет суть дела: оказывается, главный геолог одной из наших партий соблазнил жену геолога той же партии, о чём с подачи обманутого мужа стало известно широкой геологической общественности. И вот начальнику экспедиции надо принять решение. Надо сказать, что нам давно было известно о дон-жуанских качествах нашего коллеги, да и вообще явление это было не из ряда вон выходящих, — чего не случается в «поле». В.С.П. изложил все обстоятельства дела и спросил моего мнения на счёт дальнейших действий: может быть, перевести злодея-соблазнителя главным геологом (а он был хорошим специалистом) в другую партию, а пострадавшего в качестве компенсации за понесенный ущерб назначить главным геологом этой партии? Или есть какие-то другие варианты?
Ситуация была настолько смешной, что я не удержался и сказал: Вячеслав Семёнович! Ну, вот Вы переведёте его в другую партию, а он и там у кого-нибудь уведёт жену. Проблему надо решать кардинально. А как? — спросил В.С.П. Отвечаю: давайте его кастрируем!
От неожиданности Вячеслав Семёнович окаменел. Потом махнул мне рукой, из чего я понял, что ему нужно время для решения. Ушёл. В коридоре встречаю того же В. С. Кофмана. Оказывается, идея о «рокировке» принадлежала ему. Я сообщил ему о своём предложении.
В. С. Кофман тоже не ожидал такого, и чуть было не упал от смеха. Видимо, с его подачи это моё предложение разошлось по экспедиции и Управлению. В итоге на меня обиделись оба: и соблазнитель, и пострадавший. А ведь я хотел, как лучше…
Поездка в Эстонию
Меня пригласили к участию в составлении новой версии Ленинградского листа Государственной геологической карты масштаба 1: 1000000.
Участие в составлении такой карты — большая честь для геолога-«производственника».
Поскольку этот лист карты выходит за пределы Ленинградской области и в числе прочих захватывает запад Эстонии, возникла необходимость ознакомления с керновым материалом скважин, пробуренных на этой территории.
Связался с эстонскими коллегами и договорился о посещении их кернохранилища (название места, к сожалению, забыл).
Вообще отношения с эстонскими коллегами у меня сложились неплохие. Я регулярно писал отзывы на их кандидатские диссертации (Кивисилла, Петерселль, Пуура…), и, конечно, эти отзывы были положительными (отрицательные отзывы пишут только «очень плохие люди», нормальные в таких случаях их просто не пишут). Правда, некоторые из них (в частности, Вяйно Александрович Пуура) подозревали меня в «имперскости», что было, конечно, смешно, но, впрочем, не мешало нашему участию в авторстве некоторых совместных публикаций. В общем, отношения были хорошими.
Поехали. В кузове нашей машины разместились двое рабочих. Водителем оказался мой давний знакомый ещё по совместным поездкам с геофизиками философ-мизантроп Василий Иванович.
Поскольку год был Олимпийским, то Ленинград и окрестности были вычищены до блеска. Это же касалось и дороги на Таллинн, где олимпийцам предстояло провести водную часть соревнований.
Но надо знать Василия Ивановича. Несмотря на то, что он был женат на женщине из Риги и часто бывал там, а, возможно, именно поэтому, он относился к прибалтам крайне подозрительно. Так, например, он на полном серьёзе утверждал, что на каждом чердаке у них спрятан пулемёт, а под цветочными клумбами зарыты танки в смазке. Короче, ворчание и негатив так и фонтанировали из него. На первых порах меня это веселило. Но однообразие приедается. И когда, проезжая мимо сверкающих голубизной заборов, расположенных вдоль трассы домов, он заявил, что это показуха и заборы, как и стены домов, выкрашены только с одной стороны, я не выдержал и велел остановиться. Остановились. Подошли к домам. Оказалось, что наш философ прав, — дома и заборы, действительно, были покрашены только с лицевой стороны, чтобы производить впечатление на проезжающих «гостей нашей родины». Потёмкинская деревня! Эта же история повторилась, когда мы проезжали мимо новеньких туалетов, расставленных вдоль трассы. Василий Иванович заявил, что в этих туалетах даже дырок нет, не то, что выгребных ям. Проверка на местности подтвердила его правоту. Больше я его уже не оспаривал. Вот, что значит истинное знание!
Наконец, приехали. Чистенький убранный посёлок, огромное, весьма упорядоченное, хорошо организованное кернохранилище, аккуратные домики для служащих и приезжих геологов.
Представился, показал документы, письмо от руководства Управления. Сослался на телефонные договорённости. Всё, как-будто в порядке. Но отношение несколько настороженное, — гости из России…
Впрочем, всё это как по мановению какой-то волшебной палочки изменилось, когда из ближайшего помещения выбежал тот самый Кивисилла, которому я недавно писал отзыв, и с радостным криком бросился ко мне чуть не на шею. Потом он объяснил, какое это счастье, что к ним приехал уважаемый Давид Иосифович Гарбар, и как они должны быть этому рады.
Не знаю, сильно ли их обрадовали слова моего знакомого, но нам тут же было предложено располагаться в одном из предназначенных для геологов помещений и разрешено работать в кернохранилище. А поскольку это было в пятницу, то вечером все, находившиеся на базе геологи, включая администрацию, уехали в Таллинн, оставив нам всю базу в полное распоряжение.
Я строго приказал своим сотрудникам вести себя аккуратно и вне предоставленных в наше распоряжение помещений ничего не трогать, а в оставленные хозяевами помещения не входить. Мне не хватало ещё проблем с этим.
Но всего не учтёшь. За работой в кернохранилище я не заметил исчезновения оставленного без присмотра Василия Ивановича. Пропажа выяснилась к вечеру, когда, расположившись на ужин, мы узнали, что Василий Иванович успел «смотаться» на невесть каким образом обнаруженную вблизи посёлка речку, и наловил там рыбы.
В самый разгар нашего вечернего пиршества откуда-то на велосипеде подъехал милиционер и объявил, что нами нарушен запрет на ловлю рыбы в этом водоёме (!), о чём он и вынужден будет составить соответствующий документ (!), ибо это есть «криминал» и нарушение законов республики Эстония. Дело «запахло керосином».
Впрочем, увидав, спущенную под стол бутылку, он несколько изменился во взгляде, а когда всё тот же Василий Иванович налил стакан и протянул его блюстителю порядка, тот и вовсе оставил разговор о «документе», а закусил этой самой «криминальной» рыбой.
Потом, получив вторую бутылку в качестве «дружеского подарка», он сел на свой велосипед и тихо растворился в ночи.
Слава Б-гу, инцидент был исчерпан в самых лучших традициях отношений с Советской Властью, а в Эстонии она в те поры ещё была советской.
За два дня пребывания в кернохранилище я успел просмотреть и переописать интересовавшие меня разрезы, и утром в понедельник, сдав керновое хозяйство и помещение приехавшим на работу эстонским товарищам, мы отчалили в родные пенаты.
Потом я ещё несколько раз посещал и другие кернохранилища Эстонского геологического управления, да и их главную штаб-квартиру, находившееся под Таллином, и всегда встречал радушный прием и полное содействие со стороны эстонских коллег. Спасибо.
Моя первая Библия
Я уже писал, что всю сознательную жизнь интересовался историей вообще и историей еврейского народа, в частности. Но как узнать об истории евреев, если даже в академических изданиях (я уже писал об этом) еврейскому государству не выделялось места.
Оставалась Библия. Но купить Библию в открытых магазинах и даже в антикварных книжных магазинах не представлялось возможным, а церковь или синагогу я не посещал, да и там, насколько я знаю, распространение Библии было запрещено. Приходилось довольствоваться тем, что было доступно: Лео Таксиль, Е. М. Ярославский (М. И. Губельман), в лучшем случае, И. А Крывелев, — и читать их, выуживая между строк правду о стране и народе.
Первая Библия оказалась у меня в руках во время моего первого посещения Израиля.
Произошло это так: иду я как-то с так называемого «бедуинского шука» — импровизированного базара, который раз в неделю открывался на окраине Беер-Шевы и который я любил посещать, разыскивая там недорогие экзотические вещи; так вот, иду я как-то с этого шука, начинается дождь (что в Израиле и редкость, и стихийное бедствие), как вдруг с пригорка на обочине дороги сбегают два молодых человека — юноша и девушка — и, спросив, понимаю ли я по-русски (и получив ответ, что только по-русски я и понимаю), вручают мне книгу в странном
прорезиненном переплёте. Вручили и стремительно убежали.
Придя домой, я обнаружил, что это полная Библия с Танахом (Ветхим Заветом) и Новым Заветом — Синодальный перевод. Так у меня оказалась моя первая в жизни Библия. С тех пор прошло уже более 20 лет. У меня появилось ешё шесть переводов ТаНаХа. Но этот я берегу и время от времени перечитываю, ибо, на мой взгляд, там лучший перевод на русский (конечно, из известных мне).
Что же касается этих молодых людей, то, как мне потом рассказал брат, это, скорее всего, были волонтёры из общества «Евреи за Христа» («Евреи за Иисуса»?), которым категорически запрещено (?) пропагандировать своё учение и раздавать свои материалы в Израиле.
Но я им благодарен, ибо из их рук ко мне попала «моя первая библия». Спасибо.
Наша Вьюжка
Я долго откладывал, прежде, чем решился приступить к этому рассказу. Причин тому несколько, и прежде всего, это чувства, которые охватывают меня при этих воспоминаниях. Но когда-нибудь надо написать и об этом.
Я никогда не был ни собачником, ни кошатником. В нашем доме, в Минске одно время проживал кот, и я, кажется, уже писал. что этот кот удивительным образом узнавал, когда папа подходил после работы к нашему двору, и всегда встречал его ещё на подходе. Но у меня лично никаких воспоминаний, кроме этого, от тех времён не осталось. Короче, я не кошатник и не собачник.
Но когда у нас с Раей появились дети, они стали поговаривать о собачке. Помню как Веня просил маму принести ему из роддома «или девочку, или собачку» и был первое время очень огорчён тем, что мама принесла ему братика.
После рождения и некоторого подрастания и Женя присоединился к просьбам старшего брата о собачке. Видимо, детям для самосознания и самоутверждения необходимо рядом какое-нибудь живое существо, которое было бы меньше и слабее их и нуждалось в их покровительстве (?).
Рая была категорически против приведения в дом какой-нибудь живности. И её можно было понять: при муже, который или уезжает на 4-6 месяцев (а то и на год), а если и не уезжает, то большинство так называемого «свободного времени» проводит за написанием статей, — при таком муже все заботы по дому и трём мужикам ложились на её плечи. А тут ещё собачка!
Пока мы жили в коммунальной квартире, да ещё и все в одной комнате, отвечать детям отказом было просто, да и они уже понимали обоснованность наших отказов.
Но вот мы переехали в четырёхкомнатную квартиру, которая первое время стояла полупустой по причине отсутствия всякой мебели. Тут уж на отсутствие места не сошлёшься. И просьбы возобновились с новой силой.
И вот однажды мой сотрудник в Пудоже сообщил, что ему привезли из какой-то дальней деревни двух щенков лайки: «мальчика» и «девочку» — на выбор. Он выбрал себе «мальчика», назвал его «Мороз» и, зная о моих намерениях достать детям собаку, предлагал мне «девочку». Я принял его предложение и полученного щенка назвал Вьюгой. Щенок представлял из себя маленький рыжий комочек почти незаметный в приспособленной для транспортировки корзинке.
Не помню, каким образом эта корзинка оказалась в Ленинграде (кажется, её привезли на своей машине геофизики (?). Когда я принёс её домой, то предварительно оставил за дверью и попробовал подготовить к этому Раю. Рая была непреклонна и даже сказала: «или я, или эта ваша собака». Ну, что оставалось? Открыл дверь и внёс злополучную корзинку. Рая так и села в коридоре под вешалкой. А маленький рыжий комочек, вывалившись из корзины побежал по паркету, время от времени оставляя на нём мокрые пятна… За щенком бежали дети, подтирая эти пятна и норовя дотронуться до этого живого чуда. Надо ли говорить, что через пару дней Рая примирилась с новым жильцом (вернее, жиличкой) и даже стала приучать её к месту, которое мы ей выделили всё под той же вешалкой и к месту, где она могла отправлять свои естественные надобности. Постепенно между Раей и новой «жиличкой» установились даже дружеские отношения, чему способствовал тот факт, что именно Рая её кормила и поила.
Ну, а ребята!.. Те просто таяли от восторга и нежности. Лёня добровольно взял на себя обязанность гулять с Вьюгой и делал это так истово, что в районе среди собачников получил даже прозвище «мальчик с Вьюгой».
Я не знаю, как точно определить её породу. Но, судя по всему, это было нечто среднее между западно-сибирской (по окрасу) и восточно (русско)-европейской лайкой. Поскольку места, откуда её привезли, достаточно глухие, — это восточная Карелия, — то примеси там ждать неоткуда. Впрочем, и паспорта тоже.
На мою долю выпали оформительские и организационные дела: поставить её на учёт, получить паспорт и бирку, достать ошейник, поводок и так далее.
Постепенно все эти дела уладились, и в нашей семье появился новый член с особыми правами.

Особенно большие хлопоты свалились (на этот раз прямо на мою голову), когда она где-то, видимо, на выгуле подхватила чумку. Как мне сказала врач-ветеринар, спасти её могли только уколы гамма-глобулина. В Ленинграде этого остродефицитного лекарства достать не удалось. Пришлось подключать к делу маму, которая в те поры работала в районной поликлинике. Не знаю как, но мама сумела достать это лекарство, а папа упросил лётчиков рейса Минск-Ленинград привезти коробку с ампулами в Ленинград (святые были времена!), где мне её и вручили в аэропорту (причём, всё это делалось бесплатно, просто из любезности).Появление в доме собаки требовало и некоторого изменения стиля нашей жизни: её надо было регулярно кормить, выгуливать, нельзя было уезжать, оставляя её одну в квартире более, чем на пол-суток. Ну, и конечно, надо было относиться с пониманием к тому, что у неё растут зубки и что объектом проверки этих зубок могут стать (и становились) не только тапочки, но и нижние части обоев, не говоря уже о плинтусах…
С этими ампулами (я по совету врача возил их на каждый укол по одной, храня остальные дома в холодильнике), так вот с этими ампулами в кармане и с Вьюгой на руках по два раза в неделю практически через весь город я ездил в ветеринарную лечебницу, где ей делали очередной укол. И так несколько месяцев. Даже врач, видавшая виды, оценила и нашу преданность, и наши усилия.
Следующей проблемой были щенки (!). По мере вырастания. Вьюга становилась взрослой собакой со всеми вытекающими из этого следствиями. И однажды Лёня не сумел удержать её. Девица потеряла невинность. А мы через установленное природой время приобрели четырёх (или пятерых?) разномастных щенков. Что с ними делать?! По совету всё той же женщины-ветеринара мы повесили объявления и не просто раздали щенков желающим, а «продали» их (правда за весьма символические цены, вроде 1 — 3 рублей). Давая мне совет не отдавать, а продавать щенков, врач аргументировала это таким образом: «Человек, вообще-то … Если он просто получит щенка, то через пару дней, намучившись, возьмёт и выкинет его за дверь. А вот если он хоть рубль потратить на это дело, то скорее удавится, чем выкинет своё добро». Что же, это тоже философия, основанная, видимо, на хорошем знании человеческой природы. Ведь говорила это врач, да ещё много лет работавшая с животными. А человек, ведь, тоже живое существо, хотя, как говорят, сделан был из глины.
Так прошло несколько лет. Пару раз я брал Вьюгу с собой в поле, где в маршрутах очень ярко проявлялись её охотничьи инстинкты: облаивала белку, брала след, да так, что приходилось с трудом отрывать её от этого, ибо маршрут — это, отнюдь, не охота. И дичь там совсем иная.
Я перехожу к самой трудной части моего рассказа.
Это случилось в очередной полевой сезон. Я собрался в поле, в Пудож, и, как уже не раз, взял Вьюгу с собой. Первые несколько дней она проводила у меня в комнате, привыкая к новой обстановке. Постепенно стал брать её с собой, тем более, что в эти дни занимался описанием керна в нашем кернохранилище. Кернохранилище было расположено в огромном сарае на высоком берегу старицы реки Водлы. Напротив нашего кернохранилища располагалась автобаза местного леспромхоза. Вероятно, и сарай, в котором мы хранили керн, когда-то принадлежал этой автобазе, ибо перед ним находилась эстакада для осмотра автомашин. На эстакаде как раз стоял наш Урал, под которым копошились шофёр и механик нашего гаража. Я сидел на улице перед ящиками с керном и описывал очередной разрез. Вьюга вертелась где-то возле. Я и не заметил, как она перебежала через улицу и стала бегать перед воротами автобазы. Увидав её там, я позвал её назад. Она не сразу откликнулась, а откликнувшись, пустилась к нам через дорогу. И надо же было такому случиться, что как раз в этот момент из ворот автобазы выехал очередной ЗиЛ. Нормальный водитель, увидя перебегающую перед его машиной живую тварь, обычно тормозит, пропуская её. Но среди двуногих иногда случаются и такие выродки, для которых задавить невинное существо — радость. Однажды мне попался один такой. Надо ли говорить, что эта его поездка со мной была короткой и последней.
Но вернёмся к нашему случаю.
Увидев Вьюжку, этот мерзавец прибавил газу и накрыл её своим карданом. Когда он проехал, и я увидел её, лежащей на дороге, я потерял над собой контроль и приказал водителю нашего Урала догнать этого гада. В ответ тот сказал, что пока они съедут с эстакады, того уже и след простынет. Наш водитель был прав. Если бы я смог догнать этого мерзавца, наверное, мог и убить (со всеми вытекающими из этого последствиями и для меня, конечно).
Я поднял Вьюжку на руки и понёс к нашему кернохранилищу. Так у меня на руках она и остыла. Я собственноручно вырыл ей могилку рядом с кернохранилищем на берегу, во что-то мягкое обернул её тело и опустил в эту могилу.
Я во взрослые годы редко плачу. Но на этот раз не удержался…
Через десять лет, посетив в очередной раз Пудож, я побывал на её могиле. Холмик, конечно, осел, но ещё виден. И над ним, несколько в стороне, растёт деревцо. Вот и всё о Вьюжке.
Больше у нас никогда не было ни одной собаки. И никогда не будет.
На память у меня сохранился ошейник с надписью «Вьюга Гарбара». Правда, этот ошейник ей надевали редко, — обычно пользовались более мягким, который не так мял шею.
Я и сейчас не знаю: может быть, это я виноват в том, что взял её с собой в поле, что спустил с поводка, что позвал… Наверное, виноват. Впрочем, ТАМ всё объяснят и за всё спросят.
«Ястрип в смерчи!»
Однажды приятель пригласил нас с женой на выставку детского рисунка в Русский музей Ленинграда. Выставка, как выставка. Детские рисунки всегда интересны.
Но одна из «картин» просто приковала нас к себе.
На картоне размером, примерно, метр на метр ярко-красным карандашом было нарисовано нечто невообразимое: казалось, что автор просто с огромной энергетикой рисовал какую-то бешеную спираль.
Внизу стояла подпись: «Ястрип в смерчи!» (орфография автора сохранена полностью).
Мы с приятелем долго стояли напротив картины.
Потом он сказал: «Этот парень писает кипятком!
Встреча с «деловым человеком»
Я уже писал, что в 1970 году был назначен главным геологом Прионежской партии. Партия работала, в основном, на территории Онежско-Ладожского перешейка и её геологи занимались преимущественно съёмкой масштаба 1:200000. Одним из объектов такой съёмки был так называемый Олонецкий лист. Ответственным исполнителем работ по этому листу был Николай Львович Келль. Так случилось, что он и его коллеги не успевали с описанием и опробованием керна пробуренных скважин. Керн хранился на базе партии на окраине города Олонец. И мне, как главному геологу партии, приходилось довольно часто приезжать в Олонец, чтобы подключаться к этим работам. Останавливался я обычно в местной гостинице.
Поскольку это было часто и относительно надолго, то по моей просьбе местные девушки-дежурные старались не подселять ко мне никого из других приезжих, тем более, что и приезжих было не так много.
Вот и на этот раз: приезжаю, заселяюсь в знакомый двухместный номер, переодеваюсь в рабочую одежду и ухожу в кернохранилище.
Вечером возвращаюсь и вижу: в «моём» номере на соседней койке лежит незнакомый человек. Обращаюсь к дежурной. Она объясняет, что это художник из Молдавии. И что в гостинице просто на этот день свободных мест не оказалось. Возвращаюсь в номер. «Художник из Молдавии» продолжает лежать на не разобранной постели. Лежит в брюках, в грязных ботинках. Видимо выражение моего лица и поведение было достаточно выразительным, ибо после некоторого молчания он спросил: «Я вам не нравлюсь?» Я не ответил, хотя, видимо, и без ответа всё было ясно. Опять помолчали. Потом он сел на кровати и попробовал начать разговор. Надо сказать, что, кроме пыльных чёрных брюк и ботинок, на нём была надета белая, очень несвежая рубашка и галстук с пальмой и обезьяной на ней. Пыльный черного цвета пиджак висел на спинке единственного стула. Вторым местом для сидения была табуретка.
Мой сосед, стараясь начать разговор, для начала представился. Он сказал, что по профессии он художник по костюмам и в Карелию приехал для изучения местных народных костюмов.
После небольшой паузы он добавил, что это формальная цель его приезда. А на самом деле, он хочет купить мотоцикл. Это уже начинало становиться интересным. Я спросил, зачем ему мотоцикл и нельзя ли было купить его в Молдавии. Он ответил, что в Молдавии это дефицит. А в Карелии, как ему говорили, мотоцикл можно купить по дешёвке. Потом добавил, что мотоцикл ему, собственно, не нужен. Но на вырученные за пару мотоциклов деньги он собирается купить машину. Видимо. эта мысль так сильно волновала его, что он вскочил с кровати, на которой сидел, и стал прохаживаться по номеру. Он сказал, что, купив эту воображаемую автомашину, он не остановится, а путём нескольких перепродаж приобретёт белую Волгу. Я спросил, почему именно белую? И тогда он сказал сокровенное: его мечта построить двухэтажный дом и чтобы у ворот этого дома стояла вожделенная белая Волга.
Я с большим интересом смотрел на этого человека. Такие мне ещё не попадались…
А он помолчал и вдруг сказал, почему-то приравняв меня к жителям этого Олонца, — «Нет, не деловой у вас тут народ! Вот иду я по улице. Лежит куча досок. Спрашиваю, кто хозяин? Никто не знает. Как? Лежат доски и никому не нужны? Вот у нас: лежит на дороге один старый рваный калош (выражение сохранено полностью). Идёт человек. Видит это калош, поднимает его и несёт на базар. Там становится в ряд и продаёт этот калош. Подходит покупатель. Спрашивает: сколько стоит калош? Отвечает: пять рублей. Покупатель предлагает три рубля. Он говорит: нет, пять. Покупатель — три. Он — пять. Три! Пять! И так до самого вечера.
Вечер. Он так и не продал свой калош.
И тут он сделал ногой такое элегантное движение, долженствующее изобразить отшвыривание этого калоша в сторону. И потом сделал пару шагов по комнате, якобы прочь с рынка.
Таким я и запомнил этого «делового человека».
Новая жизнь
Унна-Массен
Я начинаю этот раздел 7 июля 2012 года, ровно через шестнадцать лет с того момента, как мы прилетели в Германию. Мы — это Рая и я. Но вот уже 79 дней, как Раи нет на этом свете, и мне не с кем отметить эту дату.
А начиналось всё так: в Ленинграде в аэропорт нас привёз Володя Каган. Не помню, кто был из провожающих, — кажется, ещё подруга Раи Света Баранова. Больше не помню.
Вспоминаю только, что на мне, несмотря на летнее время, был какой-то плащ и широкополая чёрная шляпа, не умещавшаяся ни в какой багаж. Потом уже мои новые знакомые, которые, оказывается, тоже летели с нами в одном самолёте, говорили, что, увидав эту шляпу, приняли меня за хасида, к чему я, честно говоря, не очень стремился.
Самолет перенёс нас в Дюссельдорф, где в аэропорту нас встретил старший сын Лёня, который отвёз к себе на квартиру в город Дуйсбург. Там нас уже ждали живший в этом же доме (но в другом подъезде) Женя, наши невестки Рената и Лена, и, конечно, внуки Венечка, Саша и внучки Анечка и Сашенька, родившаяся уже в Германии.
Там мы сначала отметили наш приезд, а потом попробовали отдохнуть от перелёта и связанных с этим потрясений. На следующий день мы, примерно, в том же составе отметили день рождения Лёни.
А на третий день, 9 июля 1996 года тот же Лёня (у Жени тогда не было автомашины) привёз нас в Унну-Массен.
Вот что написано об этом месте в Googl-е:
«Лагерь для эмигрантов и переселенцев Унна-Массен находился на окраине города Унна, или скорее за его пределами… Здесь разместились несколько корпусов административных зданий для работы с эмигрантами, дома для персонала лагеря, поликлиника, несколько магазинов, почта. Из Унны в лагерь ходит рейсовый автобус. Строго по квадратам расчерченные улицы, утопают в зелени деревьев и кустарников… Говорят, что когда-то здесь был американский лагерь, что-то вроде закрытой военной базы или разведшколы, а может, и нет».
Не стану описывать ни наши треволнения при оформлении в этом лагере, ни наши первые впечатления от пребывания там и от соприкосновения и с пресловутым немецким «Ordnung-ом», ни с нравами наших соотечественников (евреев и немцев-переселенцев). Об этом написана масса воспоминаний. Но когда через две недели мы получили возможность переехать по месту нашего следующего проживания — в город Дуйсбург, мы были очень рады.
Правда, и в Дуйсбурге нас первоначально поселили в общежитие на одной из окраин города.
О жизни там тоже не хочется вспоминать. Да и вспоминать, собственно, нечего.
В конце концов, месяца через три-четыре мы получили постоянное место жительства по адресу: Duisburg. Husemann Str.1, где проживаем (теперь проживаю я один) и посейчас.
Началась новая жизнь.
Предисловие ко второй части:
Странно, но для того, чтобы начать этот раздел, мне потребовалась пауза не в три недели, как предполагалось, а почти в три года. Почему? Ну, во-первых, потому, что это очень близко, и требуется время, чтобы разглядеть реалии и отбросить попутные и ненужные мелочи. А во-вторых, вероятно, потому, что уж очень эта новая жизнь отличалась и отличается от прежней: и по стилю, и по интересам, и по обстоятельствам. Вот, пожалуй, с обстоятельств и начну.
Обстоятельства
Если прошлая жизнь для меня была наполнена делами, задачами, обязанностями, так или иначе не связанными напрямую с семьёй, с близкими, то новая жизнь оказалась полностью связанной именно с ними. Знакомых вокруг на первых порах не было вовсе. Да и потом эти знакомства носили, в основном, «шапочный» характер (как тут не вспомнить высказывание Савелия Абрамовича Салуна «о появлении друзей»).
Впрочем, сыновьям и невесткам было не до нас, — приходилось встраиваться в новую жизнь, учить язык, адаптировать свои знания, приобретённые в советских вузах, к новым реалиям. Поэтому основные контакты у нас были с внуками и внучками, благо жили они в ту пору рядом (собственно, когда мы выбирали место для переселения из общежития, близость к детям была одним из основных критериев). Рая сосредоточила своё внимание на совсем маленьких внучках, я — по мере сил — на внуках. Надо сказать, что тогда я не понимал, какое это счастье — общение с внуками и внучками. Но оно, это общение было. И оно в значительной степени сделало наш переход от старой жизни к новой менее болезненным.
Кроме того, я получил разрешение на посещение шестимесячных языковых курсов. Не думаю, что сами эти курсы мне так уж и помогли (я пришёл туда с некоторым запасом бабушкиного идиша и, кажется, с ним и ушёл). Но сам факт появления какой-то обязанности: вставать в 6 часов утра, ехать в соседний город Оберхаузен на занятия, проводить там 6-8 часов в компании таких же великовозрастных «учеников», возвращаться, — всё это занимало и ум, и время.
Почти с самого начала я понимал, что немецкого языка мне по-настоящему не выучить (тут совмещались и моя неспособность к языкам, и возраст, и, главное, отсутствие обстоятельств активного общения с носителями языка — немцами, ибо моё окружение оставалось русскоязычным). Отсутствие стимулов, конечно, не способствовало овладению языком.
Наиболее чётко это моё состояние отразилось в стихотворении «Der, Die, Das»:
Der, Die, Das
Марии Зашевской — моей первой учительнице немецкого языка.
Когда бы кто-нибудь
В моем «вчерашнем мире»
С десяток лет назад
Мне предсказать сумел,
Что я в Земле Немецкой,
Возможно, буду жить
И выучу язык, который
Ненавидел с детских лет,
Я рассмеялся бы в ответ:
Ведь я привык к Земле,
Где родился и вырос,
Где я познал любовь,
И Ненависть познал,
Где Истину искал
И заблуждался,
Терял и находил,
И счастлив был находкой,
И о другой Земле не помышлял.
И вот, не изгнан, а уехал сам
Живу, ем, пью, перемещаюсь.
Но я уже не я, а «fluchtlingkontingtnt».
Настойчиво твержу: «Ich bin, Du bist, Er ist,
Wir sind, Ihr seid, Sie sind»,
И «Der», и «Die», и «Das».
А мысль: ты кто, ты где сейчас?
И почему, зачем и для чего?
И снова: «Der», «Die», «Das», –
Язык твердит одно, А голова — другое.
Ну, а Душа? Ну, а Душа болит
И недоумевает: зачем мне этот «Der»?
И кто мне эта «Die»? ,
И что мне это «Das»?
И кто я здесь теперь?
И что там впереди?
И что мне это даст?
И горькие слова рифмую
С «Der», «Die», «Das»,
Рифмую с «Der», «Die», «Das»… .
- Дуйсбург, ФРГ.
Что касается моих «соучеников», то состав группы был самым пёстрым. Преобладали выходцы из Украины и Молдавии. Считалось, что в группе все имели высшее образование. Но среди нас было несколько девиц, которые даже по возрасту не могли иметь высшего образования (кстати, они-то и овладевали немецким быстрее других). Впрочем, наличие вузовских дипломов ещё ничего не значило. Главное заключалось в воспитании, в стилистике поведения, в интеллекте, в конце концов. Относительно близко я сошёлся с двумя ленинградцами: бывшим оперным баритоном Юрием Борисовичем Микком и Жанной Старобинской. Юра Микк обладал прекрасным слухом и лучше всех воспроизводил немецкие слова. Но заучивать их он категорически отказывался, говоря, что «лобные пазухи» у него «для звука». В Германии он попытался выступать профессионально, но это как-то не получилось, и сейчас он, насколько мне известно, работает дьяконом (!) в одном из православных храмов Дюссельдорфа.
Жанна овладевала языком лучше нас с Юрой, и на бытовом уровне вполне им пользуется. Так случилось, что она познакомилась и подружилась с Раей, и это общение доставляло им обеим удовольствие. Они даже вместе ездили в Италию, да и потом активно общались.
Что касается меня, то после окончания языковых курсов я оказался перед необходимостью определяться со своей дальнейшей деятельностью.
Попытки продолжить профессиональные занятия не увенчались успехом. На свои предложения я получил несколько отзывов: мне предлагали попробовать читать лекции в двух или трёх университетах земли Северный Рейн-Вестфалия и в одном университете Голландии. Но при этом сообщали, что лекции должны читаться на немецком или английском (в Голландии) языке и без переводчика…
Была предпринята попытка организации составления Карты активных разломов Европы, что казалось актуальным в свете серии катастроф на железных дорогах и при постройке других разных коммуникаций. Поначалу эта идея была поддержана земельными властями (один из чиновников в Дюссельдорфе перевёл на немецкий мою докладную записку и даже сумел, заручившись поддержкой земельной власти, получить обещание со стороны ЕЭС выделить грант на выполнение этих работ). Но было высказано и условие, что возглавить такую работу может только гражданин страны-члена ЕЭС. У меня в те поры ещё не было немецкого гражданства. А моё предложение, чтобы эту работу возглавил кто-то из немцев (себе я отводил роль научного руководителя или, в крайнем случае, научного консультанта), — это моё предложение не нашло отклика в Берлине (Гюнтера Шваба к тому времени уже не было в живых, а его преемники были заняты другими делами)…
Все эти попытки отняли несколько лет.
И тут я подумал: ну хорошо, — я добьюсь желаемого — выучу язык, соберу группу, составлю эту карту (эти карты)… И потрачу на это ещё 5-10 лет. А мне уже 63 года.
Что я успею (и сумею) сделать после 70?
Теперь я понимаю, что в тех моих рассуждениях незримо присутствовала ещё одна мысль: уже в период подготовки к отъезду и сразу после приезда в Германию я стал активно и много писать. В основном, это были стихи (потом основой корпус написанного вошёл в книгу «Шесть десятых»). А тут еще и реализация моей давней мечты — изучение истории еврейского народа… Вот к этому-то меня тянуло всё больше и сильнее.
Интересы
Я уже писал о том, что всю жизнь интересовался историей. В том числе и историей религий.
И, конечно, историей моего народа — историей евреев.
Но если по общей истории можно было достать относительно много книг (я не говорю о качестве и идеологии, в которой рассматривались и трактовались исторические события и факты), то по истории религий книги были гораздо менее доступны. Впрочем, даже из таких книг, как «труды» Л. Таксиля, Е Ярославского или И. Григулевича можно было хоть что-то узнать (не говоря о работах настоящих учёных: М. И Рижского, И. М. и М. М. Дьяконовых, и других). А об истории еврейского народа в изданиях советского времени практически вообще ничего не говорилось. Достаточно привести всего один пример: в двухтомной «Истории Древнего Востока», вышедшей в издательстве Главной редакции Восточной литературы в 1988 году под редакцией академика Б. Б. Пиотровского (при участии в редакционной коллегии тех же И. М. Дьяконова, Г. М., Бонгард-Левина и других) из 1155 страниц иудеям досталось не более десятка, и то в контексте «переселения заречных племён».
Естественно, оказавшись в условиях практически полной доступности интересующей меня литературы, я читал запоем (как когда-то мировую и русскую классику).
И не только читал, — записывал, конспектировал. Постепенно собралось некоторое количество материала по интересующим меня темам. Дальше, конечно, воля случая.
Так случилось, что я был приглашён одной из активисток нашей еврейской общины (Дуйсбурга — Оберхаузена — Мюльхайма) Любовью Меджибовской на заседание «клуба сеньоров». Там одна дама рассказывала об истории еврейского народа. Но рассказывала так пресно, так тускло, что я не выдержал и после лекции предложил Любе, после того, как эта дама завершит свои рассказы (чтобы никого не обидеть), начать новый цикл.
На этом и разошлись. Прошло немного времени, и Люба позвонила мне и пригласила к выполнению нашей договорённости. Так началась моя лекционная деятельность.
Стиль новой жизни
Если оставить в стороне быт, наша новая жизнь шла по следующим направлениям: Целыми днями мы (в большей степени Рая) занимались внуками и внучками.
Занятия с внуками оказались большим подспорьем в моей новой жизни, и, я надеюсь, принесли пользу и им, особенно внукам Вене и Саше-мальчику. Хотя дома они разговаривали и между собой, и с родителями по-русски, но с момента поступления в школу (Веня) и в детский сад (Саша) они всё больше переходили на немецкий, а русский стал уходить… На домашнем совете мы решили, что я начну обучать их русскому. Большую помощь, а главное, поддержку в этом вопросе мне оказала старшая невестка, жена Лёни, Рената. Без неё нашим планам не суждено было бы осуществиться. Поскольку преподавание языка, да, а ещё детям в столь раннем возрасте и с такими «отягчающими обстоятельствами», как хождение в школу, где обучение велось на немецком, — такого опыта и навыка у меня не было, — поэтому пришлось подойти к решению этой задачи по-серьёзному: была составлена целая программа, которую одна дама-культуролог даже назвала «новым шагом в работе с детьми-иностранцами». Но я работал со своими внуками. И это было определяющим. До 10 класса 1-2 раза в неделю сначала я к ним, потом они ко мне приходили внуки и мы «по системе» учились говорить, читать и писать по-русски, разбирали предложения по членам предложения и частям речи. Кое-кто даже назвал это «университетским курсом». Не знаю, так ли это, но мальчики и сейчас свободно говорят по-русски и, если не пишут (им это «без надобности»), то спокойно читают русские тексты. И в этом моя гордость.
И спасение.
Сложнее обстояло дело с внучками, Аней и Сашенькой-девочкой. Как и всякие дети, они не рвались к повышению нагрузок, а родители на этом не настаивали. Теперь Анечка, которая до ухода в детский сад наизусть читала стихи Маршака и другие детские книжки на русском, ещё относительно правильно говорит по-русски, а вот Сашенька в своём русском опирается на то, что успела приобрести на школьном факультативе. А жаль. Ведь, не говоря об общении со мной, они и помимо этого теряют в широте познания мира.
Ибо, на мой взгляд, каждый новый язык — это ещё одна степень свободы.
В выходные и свободные от занятий с внуками дни мы старались куда-то поехать — посмотреть хотя бы так называемое «ближнее зарубежье». Так мы побывали в основных городах Голландии и Бельгии, в Париже, в Праге, в нескольких городах Швейцарии, и, конечно, в ряде главных городов Западной Германии — в Аахене, в Бонне, Дюссельдорфе, в Дортмунде, в Кёльне, в Кобленце, во Франкфурте на Майне и во множестве других, менее известных, но не менее интересных городов.
Из этих поездок, кроме впечатлений от никогда не чаянного и наконец увиденного Зарубежья, сохранилось несколько частных и, на мой взгляд, комических происшествий.
Первое время мы много ездили на экскурсии с культурологом из Самары Еленой Яковлевной Бурлиной. Надо сказать, что её многочасовые лекции по истории Европы, которые он вела во время переездов из города в город, были зачастую интересней, нежели сами экскурсии.
Так однажды перед экскурсией она позвонила нам домой и спросила есть ли у нас книги Тургенева, и когда я ответил утвердительно, она попросила захватить одну из них с собой.
Едем. Справа по ходу маршрута величаво протекает Рейн, слева на склонах невысоких гор (скорее, холмов) на уступах виноградники, существование которых, как и сами террасы, восходит ещё к римским временам. На вершинах рыцарские замки. Идиллия.
Наконец очередной пункт остановки нашей экскурсии. Небольшой городок Линц. Наш экскурсовод разрешается длиннющей лекцией и о самом городе, и, главное, о том, что здесь в местной приречной гостинице одно время проживал великий русский писатель И. С. Тургенев, и что здесь он написал свою повесть «Ася». Наступает апогей лекции, и Елена Яковлевна просит меня встать у стены гостиницы, под небольшой мемориальной доской, в которой указано нечто о пребывании здесь И. С. Тургенева, встать с книгой классика. Когда я, на мой взгляд, резонно замечаю, что я не Тургенев, она очень обижается, и, взяв из моих рук книгу, встаёт сама.
Я знаю, что история написания «Аси» не так проста, что героиня-прототип самой Аси жила на противоположном берегу, и что её отношения с автором были весьма непросты. Но я молчу, чтобы не раздражать и так обиженного на меня экскурсовода.
И ещё один эпизод. Мы с экскурсией в Висбадене. По дороге масса подробностей о местном казино и о том, как и кто прожигал там время. Наконец и сам Висбаден. Вот и пресловутое казино. И надо же так случиться, что в скверике при этом злачном месте (в которое мы по сумме обстоятельств ни ногой), так вот в скверике мы видим бюст великого русского писателя Ф. М. Достоевского. На прикреплённой к постаменту табличке указаны «годы жизни» классика. Внимательное прочтение последних приводит к мысли о том, что авторы подписи перепутали и вместо дат рождения и смерти проставили даты, когда классик прожигал здесь праведным трудом заработанные деньги…
Во избежание скандала молчу. Но по возвращении в Дуйсбург не удержался и написал в адрес казино об отмеченной неловкости.
Каково же было наше с Раей удивление, когда через пару недель мы получили на бланке казино ответ её руководителя с благодарностью за замеченную описку и обещание немедленно устранить отмеченную несуразность. В конверт было вложено два жетона, каждый из которых давал право посещения казино и даже получения при этом бокала шампанского.
Пока я не воспользовался открывшимися возможностями. Но «ещё не вечер».
Что же касается «исправления замеченной ошибки», то при очередном посещении того же Висбадена мы увидели, что табличка под бюстом просто исчезла, и теперь можно только догадываться, кто это и за какие заслуги перед казино он удостоился такой чести.

На деньги, полученные в организации «Claims Conference» (они выдавались людям, перенесшим в годы войны эвакуации, или, как Рая, блокаду), Рая побывала в недельной поездке по городам Италии.Мы с Раей в Праге
Я использовал эти средства для публикации моей первой поэтической книги «Шесть десятых».
Третьим направлением (и это было уже сугубо моё «направление») было выступление с чтением лекций, а потом и авторские поэтические вечера в разных городах, так сказать, «ближнего зарубежья».
Но начиналось всё с лекций в своей общине. За первые 14 лет (последние годы я уже не читаю лекций) было написано и прочитано 138 тематических лекций, собранных в 8 циклов:
- «Краткие этюды из еврейской истории», — состоит, в свою очередь, из нескольких подциклов — всего 60 лекций;
- «Библейская поэзия» — 5 лекций;
- «Женщины ТаНаХа (Героини Ветхого завета)» — 10 лекций;
- «Загадки еврейской истории» — 10 лекций;
- «Иудейские праздники» — 10 лекций;
- «Еврейская мудрость» — 2 лекции;
- «Евреи в России и Российской империи» –12 лекций;
- «Краткие очерки истории сионизма» — 29 лекций.
По мере того, как я готовился к лекциям, читал и перечитывал ТаНаХ, вчитывался в истории его персонажей, некоторые из них стали «приходить» ко мне, «разговаривать», — так появился цикл стихотворных «монологов» библейских героев: Авраама, Исаака, Иакова, Моисея. Иисуса Навина, пророчицы Деборы, Самсона, царей Саула, Давида, Соломона, Ирода Великого, Понтия Пилата, «малых» пророков Амоса, Осии, Иоиля, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии, «больших» пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, появились и стихотоворные диалоги: царя Давида и пророка Нафана, царя Валтасара и пророка Даниила, царя Дария и Зоровавеля…
Ну, и конечно, знаменитого историка Иосифа бен-Маттафия (Флавия).
Уже потом к ним добавились «монологи» героинь ТаНаХа: Лилит, Евы, Сарры, Агари, жены Лота — Ирит, жен царя Давида — Мелхолы и Вирсавии, героинь Юдифи и Эсфири (Эстер).
Практически сразу по написании эти монологи становились элементами моих лекций.
Элементами моих лекций становились и мои переложения некоторых Книг ТаНаХа: Коэлет — Книга Экклезиаста, Тегилим — Псалтирь, Мишлей — Книга Притчей Соломоновых, Кинот (или Эйха) — Книга Плач Иеремии и других, а также ряда околоТаНаХических книг — таких, как Книга Премудрости Бен Сираха, Книга псалмов Соломоновых, Книга премудрости Соломона…
Вообще, процесс «общения» с обстоятельствами древней истории еврейского народа, его героями и героинями — процесс неостановимый. И я благодарен Б-гу и судьбе за то, что мне представилась такая возможность.
Постепенно слухи о моих лекциях распространились по общинам ближайших городов, и я стал получать приглашения читать их в разных аудиториях. Так около десяти лет я ежемесячно читал их в общине Дюссельдорфа, около шести лет — в общине Дортмунда, время от времени в Кёльне, Кобленце, Нойссе, Ратингене, Эссене и ряде других городов.
Это, конечно, предоставляло мне возможность общения с людьми, знакомств… Особой дружбы не получалось, но с некоторыми из новых знакомых поддерживаю отношения и до сих пор.
Мои первые стихи
В отличие от многих пишущих, я в детстве и юности не писал стихов. Более того, я их не любил и с отвращением заучивал те, которые нам было положено знать наизусть по школьной программе.
Зато я отчётливо помню, когда и как написал своё первое стихотворение. Это было так: я лежал с приступом радикулита и читал разные книжки. В одной мне попалось стихотворение Ю. Зимина:
«Когда кончается девичество
Игравших в качество наук,
Его величество — количество
Их приглашает ко двору».
Почему-то мне захотелось ответить автору и я написал:
Проходит юность и отрочество,
И вот девичеству… конец.
И гений знания — пророчество
Ведёт науку под венец.
Это было осенью 1984 года, в Ленинграде. И впервые опубликовано там же в 1992 году.
Говоря о стихах, которые составляют значительную и существенную часть моей «второй жизни», надо сказать, что в поэзии у меня не было учителей. Я никогда не посещал никаких литературных студий, кружков и объединений, которые, оказывается, существовали в те поры в Ленинграде; практически не общался с профессиональными поэтами (знакомство и единичные встречи с В. Н. Леоновичем и В. А. Устиновым не в счёт, ибо с ними я не говорил о своих стихах, хотя кое-что уже писал) и даже не ходил на разного рода поэтические вечера. Да и писал я редко и «в стол».
Может быть именно поэтому немецкий литературовед, профессор Вольфганг Казак и сказал мне при одном из первых наших контактов: «Вы пишете не как все».
Определённую роль в моём стихотворном «образовании», вероятно сыграли Библейские и околоТаНаХические тексты, которых я прочитал довольно большое количество и которые даже в переводах на русский очень часто звучат, как истинная поэзия. Хорошо бы. Если бы было так.
Язык
В эмиграции в отношении языка с тобой происходят два, существенно противоположных явления:
С одной стороны, встреча с носителями иных языков, даже если это носители одного и того же языка, но разных диалектов, — такая встреча размывает твой язык, причём, часто ты даже не замечаешь этого.
С другой стороны, если ты пишешь, то отношение к языку, как выразителю мыслей, становится более строгим. Ты стараешься не опускаться до новояза и сленга. Язык, по-своему, консервируется. Может быть, именно поэтому и происходит то, что не раз отмечали эмигранты разных волн, когда они плохо воспринимали язык представителей первой волны эмиграции (а те, конечно, их). Впрочем, сейчас, в «эпоху интернета» большинство этих проблем и особенностей, увы, исчезает.
Семья
Когда-то мой папа (я избегаю использовать холодноватые слова «отец» и «мать» применительно к своим родителям, предпочитая слова «папа» и «мама», — возможно, это проявление моей сентиментальности, но это так), так вот мой папа, когда мы собирали их с мамой в Израиль и перебирали вещи, готовя к отправке, на мой вопрос: укладывать ли в чемодан оттиски наших с братом статей (он с трепетом следил за нашими научными успехами и тщательно собирал оттиски наших первых публикаций), папа сказал: оставь их, сынок. И пояснил: у человека в конце жизни остается только семья — жена, дети, внуки и правнуки.
Сейчас я понимаю, что он был прав. У меня на стеллажах целая полка занята оттисками моих научных статей, книгами и брошюрами. Каждая из них — это размышления, бессонные ночи за письменным столом, переговоры и борьба с редакторами (иногда за слово, за строчку), нетерпеливое ожидание их выхода в печать, огромный всплеск энергии и радости после публикации… А теперь они мирно стоят на полке и лишь изредка требуют стереть с них пыль. Да, папа был прав.

Так вот о семье:
У нас с Раей два сына: Леонид (по домашнему Лёня) и Евгений (по домашнему Женя).
Оба они закончили ВУЗы — Лёня — Горный институт, Женя — Политехнический, удачно женились и сейчас в Германии работают по специальности в немецких (Лёня) и международных (Женя) фирмах. Каждый из них обзавёлся двумя детьми: у Лёни и его жены Ренаты два мальчика — Вениамин (Веня) и Александр (Саша); у Жени и его жены Лены — две девочки — Анна (Анечка) и Александра (Сашенька). Все они уже в Германии окончили гимназии; мальчики окончили Дюссельдорфский университет: Веня — магистр информатики, Саша — магистр экономики; девочки — Анечка получила в Штуттгарте звание бакалавра по промышленной (экономической) информатике и сейчас в Англии готовится стать магистром, Сашенька сейчас в заканчивает университет в Кёльне по профессии садово-парковая архитектура. Саша-мальчик недавно женился и привёл в нашу семью Гарбаров ещё одного члена — свою жену Юлю. Несколько месяцев тому назад у них родился мальчик, которому дали имя Леон — мой очередной правнук.
Остальные внуки пока на перепутье. Но я в надежде.
В Ленинграде (теперь он опять называется Санкт-Петербург) у меня есть ещё одна внучка (от первого брака Лёни) — Лена. Она тоже окончила ВУЗ (кажется, даже два?), вышла замуж, родила двух прелестных детей — моих правнуков Даниила и Машеньку.
Дай им Б-г всем здоровья, счастья и долгих лет жизни.

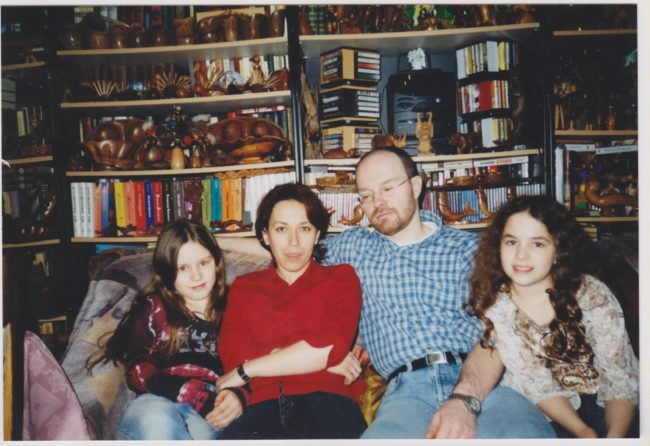
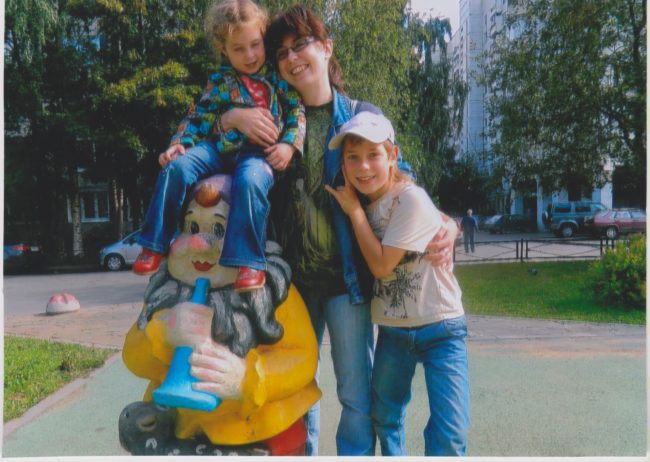
Из предыдущих разделов моих воспоминаний мне самому стало ясно, как мало я уделял внимания семье и детям. То есть уделял: бегал по утрам на молочную кухню за молоком, когда у Раи его не было, водил их (пока не было отдельной квартиры) в бани, ходил с ними изредка в магазины, посещал, когда бывал в Ленинграде, школьные собрания, время от времени брал их с собой в «поле». Но это всё было эпизодически. Систематическим воспитанием детей я не занимался (мы и сами так росли, нас этому не учили, да и времени на это, как нам казалось, не было). Сейчас я понимаю, что это моё упущение. Но время назад не прокручивается.
Единственная надежда, что они, глядя на нас, сами кое-что увидели и поняли.
Я вспоминаю, как Лёня — ещё совсем маленький, тихо (мышонком) часами просиживал за гостевым столом, внимательно вслушиваясь в речи взрослых. Женя вёл себя несколько иначе, но тоже кое-чего мог набраться, глядя на нас с Раей. Ну, и конечно, домашняя библиотека!
Лёня, насколько я знаю, изучил её досконально. Женя тоже, хотя он более закрытый мальчик и о нём я знаю меньше.
Я помню несколько моих проступков перед детьми (и дома — перед Лёней, и в «поле» — перед Женей). Мне не хочется их вспоминать, но я их помню и сожалею об этом.
Прошлого не вернёшь.
Надеюсь, что чему-то я научил своих сыновей, — если не дидактически, то хотя бы личным примером. Надеюсь.
Зато все свои долги я отдал внукам и внучкам: первое время пока они в этом нуждались и были согласны на это, мы с Раей гуляли с ними, я отводил их в садик и в школу, приводил обратно, играл с ними, учил мальчиков русскому языку и т. д.
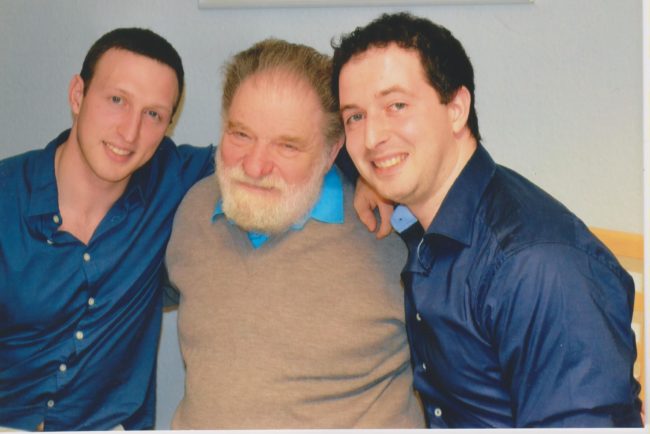
Особенно близкие отношения у меня складываются с Вениамином (Веней). Он часто навещает меня, приезжая для этого из Дюссельдорфа; курирует мои интернет-телефонные связи, иногда делая это лично, чаще — дистанционно, входя в мой компьютер и телефон. Он тёплый, умный и добрый (хотел написать «мальчик», но вспомнил, что ему уже немного больше…). Мне легко и тепло с ним.Надо сказать, что и внуки платили нам и платят мне до сих пор вниманием и любовью. Спасибо им.
В последнее время мы значительно сблизились и с младшим внуком — Сашей. Он как-то резко повзрослел, возмужал и стал более близко относиться к дедушке.
С девочками пока отношения более далёкие: может быть потому, что старшая — Анечка живёт и работает в Англии, а Сашенька — учится в Кёльне; может быть потому, что после начала их учёбы в гимназиях мы несколько отошли друг от друга, хотя до этого они росли у нас (особенно у Раи) на руках. Но пока это так.
С ленинградской внучкой Леной мы после отъезда однажды виделись (она приезжала сюда со своим первым ребёнком — правнуком Данечкой), но и теперь мы изредка (по дням рождения) переписываемся.
Дай им всем Б-г здоровья и счастья. А я их всех помню и люблю.
И опять к Рае.

После почти пятидесяти пяти лет совместной жизни (а знакомы мы и дружны более шести десятков лет) многое можно, должно и хочется сказать. Впрочем, многое уже сказано — ведь все мои воспоминания пронизаны памятью о ней, моей невесте, жене, подруге, другу.
Конечно, за более, чем полувековую историю в нашей жизни случалось всякое: были и ссоры, и обиды, были и (во всяком случае, с моей стороны) увлечения.
Но как бы ни складывались наши отношения, мы (и Рая, и я) всегда знали, что самое крепкое, что у нас есть, — это наша семья.
Мы проходили все стадии человеческих отношений — отношений между женщиной и мужчиной: страсть, тоску, нежность, отчуждённость, обиды, прощения, возможно, подозрения (хотя об этом никогда не говорилось вслух и даже не делалось никаких намёков) … Но всегда была уверенность.
Кое-что о наших (по крайней мере, моих) отношениях сказано в двух разделах следующей книги — она готовится к изданию — в разделе под названием «Ранения, — где Рае посвящено два раздела.
Особенно тесными наши отношения стали после переезда в Германию, когда я, освободившись от своих научно-производственных дел, стал почти всё своё время посвящать семье, и лично Рае.
И хотя на это время пришлась и Раина болезнь, и её многолетнее существование на фоне диализа, но это всё-таки был один из самых спокойных и тёплых периодов нашей совместной жизни.
Как-то, сидя перед телевизором, на диване, Рая сказала: мне никогда не жилось так хорошо, как последние десять лет.
Сейчас это звучит и как упрёк, и как прощение. И греет мою душу.

Слева — направо стоят: Лора (жена брата Исика), Исик, внучка Сашенька, внук Александр
внучка Анечка, Женя, Лена, Рената, Лёня; сидят: Рая, я, внук Вениамин
После ухода Раи для меня во многом исчез смысл жизни.
Конечно, остались сыновья, невестки, внуки и внучки, даже появились правнуки.
Но жизнь замкнулась практически в четырёх стенах, ибо ещё за несколько лет до этого, видя, что Рая не любит оставаться одна дома, я прекратил лекционные дела во всех местах, где читал до того.
Теперь у меня остаются только интернет и те несколько сайтов, на которых я публикую свои работы. Немного разнообразия в мою сегодняшнюю жизнь вносит работа со своими давними «соавторами — Розой Ауслендер, Нелли Закс, Полем Целаном и с моими «эпическими собеседниками»: Эпиктетом, Марком Аврелием, Бальтасаром Грасианом, еврейскими и латинскими мудрецами…
Со всеми с ними, может быть, удастся «встретиться» в новой книге.
И, конечно, жизнь разнообразит моё общение с ограниченным кругом виртуальных друзей и знакомых, среди которых первенствующую роль играют практически ежедневные общения по скайпу с братом Исиком (Исааком) и Б. А. Кушнером.
Дай им Б-г здоровья и долгих лет жизни.
